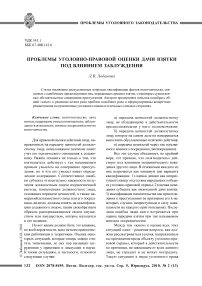Проблемы уголовно-правовой оценки дачи взятки под влиянием заблуждения
Автор: Лобанова Л.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Проблемы уголовного законодательства
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискуссионным вопросам квалификации фактов взяточничества, свя- занных с ошибочным представлением лиц, передающих предмет взятки, о некоторых существен- ных обстоятельствах совершения преступления. Автором предпринята попытка подобрать об- щий «ключ» к решению целого ряда проблем подобного рода и сформулированы конкретные рекомендации по применению уголовного закона в отдельных сложных ситуациях.
Взяточничество, дача взятки, содержание умысла взяткодателя, заблуж- дение взяткодателя, мнимое посредничество во взяточничестве
Короткий адрес: https://sciup.org/14972706
IDR: 14972706 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Проблемы уголовно-правовой оценки дачи взятки под влиянием заблуждения
Для правовой оценки действий лица, направленных на передачу ценностей должностному лицу, немаловажное значение имеет учет его психического отношения к содеянному. Важно помнить не только о том, что взяткодатель действует с так называемым прямым умыслом на совершение преступления, но и что его умысел имеет определенное содержание. Соответственно ошибки субъекта относительно законности получения должностным лицом имущественной выгоды, компетенции должностного лица, основания передачи ценностей, а также намерений должностного лица или его посредника, видимо, должны влиять на квалификацию содеянного лицом, таким своеобразным образом распоряжающимся своим имуществом или имуществом, которое находится в его ведении.
Но вот каким должно быть это влияние, по всей вероятности, ясно не всем практическим работникам и теоретикам. Оценка некоторых ситуаций, которые теперь можно считать типичными, до сих пор вызывает затруднения у практиков и дискуссии в науке. К таким ситуациям, в частности, относятся следующие случаи:
-
а) передача ценностей должностному лицу, не обладающему в действительности предполагаемыми у него полномочиями;
-
б) передача ценностей должностному лицу, которое на самом деле не намеревается выполнить обусловленные «взяткой» действия;
-
в) передача ценностей через так называемого мнимого посредника (лжепосредника).
Все эти случаи объединяет, по крайней мере, тот признак, что «взяткодатель» действует под влиянием мошеннического поведения другого лица. В отношении каждого из них встречается как минимум три варианта квалификации: 1) оценка деяния как непреступного ввиду отсутствия нарушенного объекта уголовно-правовой охраны; 2) оценка поведения субъекта как оконченной дачи взятки; 3) квалификация посягательства как приготовления к преступлению (и признание его в некоторых случаях непреступным в силу наказуемости не каждого приготовления). Последняя ошибка чаще всего встречается при оценке передачи взятки при так называемом мнимом посредничестве.
Между тем «ключ» к оценке всех этих ситуаций один – решение вопроса, как должны рассматриваться усилия, направленные на причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны, который в действительности по причинам, не зависящим от воли данного лица, не страдает и не может пострадать. Такую ситуацию в науке уголовного права иногда именуют посягательством на негодный (нереальный, отсутствующий) объект [6, с. 152–153]. Общим правилом для оценки подобных фактов является квалификация деяния как покушения на преступление [8, с. 436–437]. А в качестве исключения могут быть названы случаи признания деяния малозначительным, если ошибка субъекта вызвана его крайним невежеством. Поэтому и дача взятки под влиянием мошеннических действий в подавляющем большинстве случаев должна быть оценена как покушение на преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ. Без серьезной мотивации, что такое деяние может быть признано малозначительным, отказ оценить его как преступление будет неправомерным.
Неверно также квалифицировать передачу ценностей мнимому посреднику как приготовление к даче взятки. Ведь объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, искусственно «удлинена» законодателем путем указания на то, что получение (дача) взятки может быть осуществлено (осуществлена) как лично, так и через посредника.
Отдельного обсуждения заслуживает и оценка действий самого мнимого посредника во взяточничестве.
Казалось бы, в п. 21 Постановления № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» дан вполне конкретный ответ на вопрос о квалификации подобных действий. Их рекомендуется квалифицировать во всех случаях как мошенничество [3, с. 8]. Причем позиция Пленума Верховного Суда РФ нашла поддержку у некоторых ученых. Так, Б.В. Волжен-кин отмечал, что «мнимого посредника» вряд ли логично признавать лицом, содействовавшим совершению преступления, поскольку именно в результате его обмана преступление не состоялось [4, с. 218]. Соглашаясь с указанным автором в том, что действия мнимого посредника надлежит квалифицировать только как мошенничество, А.В. Грошев дополняет: «По тем же причинам “мнимое посредничество” нельзя признать и подстрекательством к даче взятки, поскольку умысел лжепосредника направлен
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА не на совместное совершение единого для всех соучастников умышленного преступления (дачу взятки), а на обман потерпевшего с целью завладения чужим имуществом» [5, с. 300].
На мой взгляд, подобная оценка вряд ли будет адекватной применительно к факту инициирования мошенником действий взяткодателя, квалифицируемых как покушение на дачу взятки. То, что сам посредник не намерен передать ее должностному лицу, не должно, думается, исключать его уголовную ответственность за ту роль, какую он выполнил в формировании умысла на дачу взятки и в действиях, направленных на осуществление этого умысла.
К тому же и позиция высших судебных инстанций не всегда была такой, какой она выглядит в упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве» содержалась рекомендация по квалификации действий лжепосредника как подстрекательства к даче взятки [9].
Иначе рекомендовал оценивать действия такого посредника Пленум Верховного Суда СССР в своем Постановлении № 16 от 23 сентября 1977 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве». «Если лицо, – говорилось в п. 8 данного постановления, – получает от взяткодателя деньги либо иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь это сделать, присваивает их, содеянное им, в зависимости от обстоятельств дела, следует квалифицировать как подстрекательство к даче взятки либо пособничество…» [1]. В постановлении № 3 Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве» данная позиция была несколько уточнена. Здесь значится: «Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное должно квалифицироваться как мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями взяткодатель склоняется им для дачи взятки, то действия виновного, помимо мошенни- чества, должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки. Действия взяткодателя в таких случаях надлежит квалифицировать как покушение на дачу взятки…» [ 2].
Последняя рекомендация относительно квалификации действий лжепосредника, инициирующего дачу взятки, представляется более близкой к истине.
Нужна, думается, лишь одна поправка. Речь должна идти о подстрекательстве не к даче взятки, а к покушению на это преступление. Мне представляются малоубедительными аргументы А.В. Грошева, не согласного с подобной квалификацией. Автор пишет: «Согласно ст. 30 УК РФ неоконченное преступление не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам. Соучастие в неоконченном преступлении также предполагает, что эти обстоятельства не зависят от воли всех соучастников, в том числе и подстрекателя. В данном случае причиной недоведения преступления до конца являются мошеннические действия «мнимого посредника», исключающие саму возможность совершения оконченного преступления взяткодателем…» [5, с. 300].
По моему мнению, решающее значение для признания деяния неоконченным преступлением (покушением) должна иметь его незавершенность, причиной которой являются обстоятельства, не зависящие прежде всего от воли исполнителя преступления. Волевые усилия других соучастников должны учитываться в той мере, в какой они повлияли на развитие данного преступления, на его начало, осуществление и окончание. У инициативного мнимого посредника было намерение сформировать путем обмана умысел взяткодателя на передачу предмета взятки через посредника, а не только завладеть ценностями. В случае осуществления данного намерения вполне логично говорить и о мошенничестве, и о подстрекательских действиях. Содержание ч. 4 ст. 33 УК РФ не является тому препятствием. Поскольку такой подстрекатель знает о том, что процессу дачи взятки не суждено завершиться, постольку следует говорить в этом случае о подстрекательстве к покушению на преступление.
Отмечу также, что в действующем УК РФ не учтено сложное положение субъекта, который пытался дать взятку под влиянием обмана, имея целью предотвратить причинение вреда своим правам или законным интересам, либо восстановить нарушенные права и интересы. По уровню общественной опасности действия таких лиц сравнимы с действиями взяткодателя, вызванными вымогательством. Но если в отношении последнего может быть применено освобождение от уголовной ответственности, то в отношении первого такое освобождение не соответствовало бы примечанию к ст. 291 УК РФ, ведь факта вымогательства в действительности не было. Логично было бы, однако, вопрос об объеме ответственности взяткодателей решать идентично для обеих указанных ситуаций. Но сделать это можно лишь путем соответствующего дополнения УК РФ (подробнее об этом см.: [7, с. 14–15]).