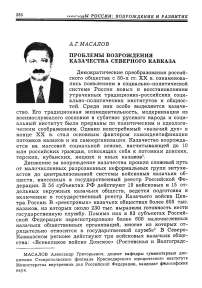Проблемы возрождения казачества Северного Кавказа
Автор: Масалов Александр Григорьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Народы России: возрождение и развитие
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
На примере Ставропольского края описаны региональные аспекты возрождения и развития русского казачества на Северном Кавказе, существенно проанализированы хронологические этапы этого процесса.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222077
IDR: 147222077
Текст научной статьи Проблемы возрождения казачества Северного Кавказа
Демократические преобразования российского общества с 80-х гг. XX в. ознаменовались появлением в социально-политической системе России новых и восстановлением утраченных традиционно-российских социально-политических институтов и общностей. Среди них особо выделяется казаче ство. Его традиционная жизнедеятельность, модернизация из военнослужилого сословия в субэтнос русского народа и социальный институт были прерваны по политическим и идеологическим соображениям. Однако неистребимый «казачий дух» в конце XX в. стал основным фактором самоидентификации потомков казаков и их самоорганизации. Казачество возрождается на массовой социальной основе, насчитывающей до 10
млн российских граждан, относящих себя к потомкам донских, терских, кубанских, яицких и иных казаков1.
Движение за возрождение казачества прошло сложный путь от малочисленных разрозненных неформальных групп энтузиастов до централизованной системы войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Российской Федерации. В 56 субъектах РФ действуют 10 войсковых и 15 отдельных окружных казачьих обществ, ведется подготовка к включению в государственный реестр Казачьего войска Центра России. В «реестровых» казачьих обществах более 600 тыс. казаков, из которых около 230 тыс. выразили готовность нести государственную службу. Помимо них в 83 субъектах Российской Федерации зарегистрировано более 600 малочисленных казачьих общественных организаций, многие из которых отрицательно относятся к государственной службе2 В Северо-Кавказском регионе действуют три войсковых казачьих общества: «Всевеликое войско Донское» (Ростовская и Волгоградс-
МАСАЛОВ Александр Григорьевич, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат философских наук.
кая области), Кубанское (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкессия) и Терское (Ставропольский край, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Чечня), внесенные в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Их социальную базу составляют потомки казаков. Так, по оценкам экспертов, в середине 90-х гг. в Ростовской области потомками казаков себя считали более 1 млн чел., а в Краснодарском крае — до 1,3 млн чел.
В некоторых республиках Северного Кавказа созданы казачьи общественные объединения, пользующиеся особой поддержкой местной политической элиты. Например, в Кабардино-Балкарии сформирована общественная организация «Терско-Малкинский казачий округ» численностью около 2,5 тыс. казаков. В Ингушетии остались единицы потомственных казаков и в трех казачьих общественных организациях насчитывается около 100 членов. В Чечне в противовес «реестровому» Терско-Сунженскому окружному казачьему обществу сформировано общественное объединение «Чеченское казачье войско», в которое принимаются чеченцы-мусульмане, не имеющие исторической связи с казачеством. Такие организации придерживаются территориального принципа формирования, не входят в «реестровое» Терское войсковое казачье общество, а часто и противодействуют ему в делах, связанных с организацией государственной и иной службы казаков3
Значительное количество потомственных казаков по различным причинам не вошло в казачьи общества и общественные организации. Например, в процессе возрождения не участвуют потомки казаков-некрасовцев, которые в 1962 г. реэмигрировали из Турции и компактно проживают в Левокумском районе Ставропольского края, бережно сохраняя культурные традиции предков, исповедуя старообрядчество.
Таким образом, современное казачество является многокомпонентной, полиэтничной и поликонфессиональной социальной общностью, основным группообразущим фактором которой служит самоидентификация граждан с традиционно российским казачеством, в качестве особого сословия сохранявшемся в социальной структуре России до ноября 1917 г. В связи с тем, что системообразующие факторы казачьей воинской службы, предопределявшей образ жизнедеятельности казаков, были прерваны на три поколения, современное казачество не является непосредственным преемником традиционнороссийского казачества и его возрождение, по сути, стало процессом реконструкции казачьей социальной общности по отдельным историческим характеристикам.
Процесс возрождения казачества идет нелинейно. В нем можно выделить периоды повышения или понижения политической активности казачьих организаций, их конфронтации или взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной власти, а также другие отличительные периоды.
В научной литературе приводятся различные периодизации процесса возрождения казачества. Например, авторы «Истории Донского казачества» выделяют в современной истории три этапа: первый (1990—1991 гг.) характеризовался подъемом казачьей культуры, активным изучением истории, выработкой опыта организации казачьих обществ; второй (1992—1997 гг.) отличался ростом численности казачьих организаций, их выходом на политическую арену, разработкой государственных программ развития казачьей экономики, местного самоуправления; третий (1997 г. — по настоящее время) связан с появлением нормативных актов о государственной службе казаков, которые неоднозначно восприняты казачеством и вызвали его деление на сторонников и противников «реестровых» объединений4 Предложенная периодизация критикуется за хронологическое несовпадение с датами принятия важных политико-правовых документов и значительными событиями в казачьем движении. Очевидно, процесс возрождения имеет большее количество содержательно-хронологических этапов.
Для обобщающих выводов по этому вопросу необходимо изучать процесс возрождения казачества в исторически сформировавшихся местах традиционной жизнедеятельности казаков, подобных Северному Кавказу. Однако территории размещения казачьих войск до 1920 г. не совпадают с границами современных субъектов Российской Федерации. Так, на бывшей территории Терской области размещаются 5 республик и несколько районов Ставропольского края. Прежняя территория Кубанской области частично разделена между Краснодарским и Ставропольским краями, Адыгеей и Карачаево-Черкессией. Представляется целесообразным исследовать процесс возрождения казачества на примере Ставропольского края — одного их субъектов федерации, обладающего как общероссийскими, так и специфическими региональными особенностями. Он занимает доминирующее положение на Северном Кавказе, граничит с 9 субъектами региона, имеет богатые природные ресурсы, является одной из крупнейших житниц и здравниц России. По территории края проходят важные транснациональные транспортные и энергетические магистрали.
Ставрополье — контактная зона многовекового взаимодействия европейской и азиатской цивилизаций. Более десяти лет жители края, имеющего административную границу с Чеченской Республикой, являются «живым щитом» на южных рубежах Отечества, принимая на себя первые удары расползающихся из Чечни идеологов и организаторов национального и религиозного сепаратизма, терроризма. По этим и многим другим признакам край занимает ключевое место в Северо-Кавказском регионе — Южном федеральном округе России.
В пределы современного Ставропольского края вошли казачьи поселения, до 1920 г. относившиеся к областям Терского и Кубанского казачьих войск. На «черные земли» восточных районов в 30—40-е гг. XX в. ссылались донские, кубанские и терские казаки. В центральных районах края проживают потомки казаков Кавказского линейного казачьего войска, которые с 1860 г., после окончания Кавказской войны, расказачивались, переводились в другие сословия, но хранили историческую память о казачьей службе своих предков. Вследствие этого Ставрополье стало местом приживания разнородных групп казаков, что осложнило их идентификацию и самоорганизацию. Государственная перепись населения 1926 г. зарегистрировала на территории края около 260 тыс. чел. казачьего происхождения, а в 1995—1996 гг. выборочное обследование казачьих обществ установило, что к потомкам казаков себя относили 36 тыс. семей, или более 130 тыс. жителей края. Общее количество потомственных и «приписных» казаков (граждан, поддерживающих казачество), по мнению экспертов, сейчас значительно больше — около 400 тыс. чел.5
Анализ процесса возрождения казачества на Ставрополье обнаруживает несколько содержательно-хронологических периодов.
В начале 80-х гг. XX в. ученые и творческие работники стали активно заявлять о проблемах казаков6. Однако деятельность интеллигентов-энтузиастов не была массовой, сосредоточивалась в исторической науке и культуре, не имела необходимых правовых и материальных основ развития. Поэтому период 80-х гг. XX в. является подготовительным для возрождения российского казачества. Его отличительной чертой является спонтанная самоорганизация неформальных объединений граждан, относящих себя к потомкам казаков. В условиях нарастания кризиса политическая система была ограничена ресурсами для реализации запросов казаков и противодействия им. Значимость этого этапа обусловлена необходимостью подготовки общественного сознания к последующим демократическим преобразованиям и созданию социально-психологических предпосылок реабилитации казачества. Этот про- цесс активизировался в конце 80-х гг. XX в. и осложнился тем, что казачеством, претерпевшем массовые репрессии расказачивания в 20—30-е гг., были утрачены формальные основы самоидентификации — сословность, казачья служба, местожительство в областях казачьих войск. Для развития казачьего самосознания требовалась интегрирующая, мобилизующая культурно-просветительная и воспитательно-мировоззренческая деятельность интеллигенции, пробуждавшей общественное сознание, формировавшей представление о несправедливом отношении к казачеству и необходимости восстановления его прав, нарушенных массовыми репрессиями.
На Северном Кавказе, в Ставропольском крае казачество возрождалось в соответствии с общей тенденцией идентификационной мобилизации репрессированных народов. Но процессы формирования других национальных движений шли быстрее в связи с тем, что для них нормативно-правовые основы создавались уже с 1989 г.7, а у казачества их не было до принятия в 1991 г. закона «О реабилитации репрессированных народов*. В ноябре 1989 г. известный ставропольский писатель В.В.Хода-рев создал инициативную группу, которая установила связь с энтузиастами Москвы, Ростовской области, Краснодарского края, других регионов и участвовала в Большом круге казачьих обществ (30 июня 1990 г., г.Москва). Круг учредил общественное объединение «Союз казаков», первоначально состоящее из 28 казачьих организаций, созданных в большинстве республик СССР. Учредительный круг завершил подготовительный этап и начал реальное возрождение российского казачества.
28—29 сентября 1990 г. был проведен первый съезд казаков Ставрополья, учредивший общественную организацию «Ставропольский краевой Союз казаков» (СКСК)8 С тех пор начался период организованного возрождения казачества в Ставропольском крае — начальный период институализации казачьего движения на Северном Кавказе. Первыми подразделениями СКСК в 1990 г. были Зеленчукский и Пятигорский казачьи округа, Казачий круг г.Ессентуки.
В то время краевой Союз был единственной массовой казачьей организацией на Ставрополье и признавался одной из самых активных и многочисленных казачьих организаций в СССР. Поэтому 8—10 ноября 1991 г. в Ставрополье проводился второй Большой круг Союза казаков, на котором присутствовало 800 делегатов от 300 тыс. членов казачьих организаций9.
Организаторы СКСК привлекали к казачьему движению потомственных казаков и всех желающих из патриотических и романтических соображений, вследствие чего к казачьему движению примкнуло много «случайных попутчиков». Некоторые члены казачьих организаций в силу заблуждений или корысти произвольно интерпретировали историю казачества и его традиции. Это отрывало их от исторических корней, порождало у населения негативное отношение к возрождаемому казачеству. Обнаруживался идейный раскол и в казачьих обществах, из-за которого отдельные потомственные казаки-интеллигенты выходили из организаций.
Помимо СКСК в крае сформировалось более 30 самостоятельных малочисленных казачьих организаций, таких как «Белое братство», «Союз казачьих войск России и зарубежья», «Ставропольское войско Великого братства казачьих войск», «Союз казачьих формирований». Они не оказали заметного влияния на казачье движение.
Лидеры СКСК добивались изменения принципов формирования казачьих организаций и перехода ко второму этапу развития казачьего движения — периоду самоидентификации казачьих обгцеств с традиционно-российским казачеством начала XX в. Этот этап начался в 1991—1992 гг. с дифференциации казачьих организаций на основе личной и групповой идентификации с предками-казаками и образования самостоятельных обществ на принципах идентификации с традиционно-российским казачеством. Так, в ноябре 1992 г. потомственные казаки-терцы, проживающие в регионе Кавказских Минеральных Вод, вышли из СКСК и создали самостоятельную общественную организацию «Пятигорский округ Терского казачьего войска». По мнению ее атаманов, к 1994 г. списочный состав округа достиг 67 тыс. казаков, хотя официально подтверждалось наличие 22,5 тыс.10
Дробление Союза ослабило единство казачьего движения, что, безусловно, не отвечало его интересам, так как в это время на Северном Кавказе активизировались сепаратистские националистические движения. Их мотивами служили национальные запросы и выдаваемые за них интересы международных нефтяных корпораций и криминальных группировок, претендующих на запасы местной нефти и газа, оцениваемые в 4 трил. дол. США. Различные формы этнической, родовой, клановой, тейповой и иной мобилизации нацеливали «титульные» народы на борьбу с «виновниками» национальных бед, которыми объявлялись советское государство, КПСС, а также
«инородцы» и «иноверцы». Деление общества на «своих» и «чужих» породило административное, экономическое и физическое вытеснение из республик «нетитульных» народов, в число которых попали и казаки, проживающие здесь более трех веков и давно уже считающиеся коренными. Русский народ, казачество внесли огромный вклад в создание материальных и культурных общегосударственных ценностей в республиках Северного Кавказа, но в современных условиях оказались в бедственном положении вследствие разрушения наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности, крупных сельскохозяйственных предприятий, где ранее трудились. Это свидетельствовало о потере влияния государства на социально-политические процессы в регионе и об отсутствии эффективных механизмов противодействия местному сепаратизму. Естественной реакцией населения на реальную угрозу жизненным интересам стала самоидентификация «нетитульных» этнических групп населения, которым пришлось вспомнить историю появления их предков в Предкавказье, идентифицировать себя с казаками, большая часть которых принудительно переселялась на «погибельный Кавказ» в XVIII в. и стала «живым щитом» на южных границах Российской империи.
Казаки, испытывавшие проявления современного национализма, сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма, определяли свою природно-историческую связь с традиционным российским казачеством, пытались стабилизировать социально-политическую ситуацию в регионе, объединить казачьи общества. В 1993 г. процессы консолидации усилились и последующий третий содержательно-хронологический этап (1993— 1996 гг.) стал интеграционным. Его начало ознаменовал Большой круг казачьих организаций Северного Кавказа, проходивший 10 июля 1993 г. в г.Новопавловск Ставропольского края. На нем учреждалось общественно-политическое объедине-ние «Кавказское линейное казачество» (11 февраля 1994 г. переименовано в Кавказское линейное казачье войско — КЛКВ), в состав которого входили казачьи организации Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии — Алании, Чечни с общей численностью около 300 тыс. казаков11.
Создание такой региональной организации соответствовало историческим традициям казачества на Северном Кавказе, где сформированное в 1832 г. Кавказское линейное казачье войско защищало южные границы России. В 1860 г. на его основе были созданы Терское и Кубанское казачьи войска, *за кото- рыми закреплялись области административно-территориального управления.
Основными целями КЛКВ провозглашались объединение казачьих организаций Северного Кавказа в единую общественно-политическую и экономическую структуру для совместной деятельности по восстановлению и сохранению казачества как этнической группы, имеющей равные права на самовыражение наряду с другими народами региона, а также восстановлению казачьих традиций, культуры с учетом современных условий, пропаганда обычаев, праздников, обрядов казачества, их традиционного быта12 В это время в Северо-Кавказских республиках сохранялась напряженная социально-политическая ситуация и особое значение для КЛКВ приобретала уставная цель: «Реализация и защита гражданских (политических, экономических, культурных) прав и свобод казаков»13 Ее выполнение было необходимо для физического выживания казачьего населения в местах традиционной оседлости, так как самоидентификация и мобилизация местных горских народов порождала их агрессивность в отношении «некоренного» населения. Имеются многочисленные примеры геноцида в отношении казаков в Чечне и их социально-политического, экономического, административного притеснения в других республиках14. Оставленные без реальной государственной поддержки, казаки стремились к самосохранению с помощью мощной социально-политической организации, способной защитить права и свободы своих членов. Об исторической роли казаков в укреплении российской государственности на Северном Кавказе вспомнили и другие жители региона, предки которых расселялись в этих местах под защитой казачьих войск. Поэтому казачьи организации получили поддержку и неказачьего населения, которое связывало с ними надежды на оздоровление социально-политической обстановки в регионе.
Объединенные в составе КЛКВ казачьи организации стали мощной общественно-политической силой, с которой считались органы государственной власти и другие общественные формирования региона и России. Поэтому в феврале 1994 г. устав КЛКВ дополнялся положением об участии казачьих организаций в выборах органов государственной власти и местного самоуправления.
Тенденция роста политической независимости объединенных казачьих организаций вызвала настороженность руководителей субъектов федерации. Некоторые из них небезуспешно пытались подчинить себе казачьи организации посредством разнообразных форм административного воздействия (прием на государственную службу казачьих атаманов, ужесточение административного контроля за деятельностью казачьих обществ и т.п.) под благовидным предлогом сотрудничества. Дей ствительно, без поддержки органов государственной власти региона даже такое мощное объединение казаков, как КЛКВ, не могло самостоятельно решать экономические и иные проблемы. В конце концов это и ряд других факторов привели в июне 1996 г. к самороспуску Кавказского линейного казачьего войска.
Четвертый этап (1996—1998 гг.) характеризуется дифференциацией казачьих обгцеств по территориальному признаку и их подготовкой к включению в государственный реестр России. В эти годы в государственный реестр РФ вошли 10 войсковых казачьих обществ, в том числе Терское (1997 г.), «Всевеликое войско Донское» (1997 г), Кубанское (1998 г.). В соответствии с указаниями Президента и Правительства России подготовку казачьих объединений Ставрополья к вхождению в государственный реестр координировал организационный комитет краевой администрации.
Наиболее многочисленным казачьим формированием был Пятигорский округ Терского казачьего войска, состоявший из 76 казачьих организаций со списочным составом около 22,5 тыс. чел. На территории деятельности округа в 1996 г. проживало 108,7 тыс. чел., причислявших себя к потомкам казаков. В то же время в Ставропольском краевом Союзе казаков (27 августа 1994 г. реорганизован в общественную организацию «Ставропольское казачье войско» (СКВ)), в 1996 г. числилось 4 608 казаков в 114 первичных организациях. На территории деятельности СКВ проживало более 30 тыс. чел., идентифицировавших себя с казаками15. Таким образом, прогнозируемая социальная база роста численности казачьих организаций Ставропольского края в то время составляла около 130 тыс. чел.
По данным оргкомитета, на 1 октября 1996 г. из 56 340 опрошенных потомственных казаков, проживавших на территории Пятигорского округа ТКВ, выразили готовность нести государственную службу 8 359 казаков (14,8%), а из 29 745 казаков, проживавших на территории СКВ, о таком желании и возможности сообщили 13 562 казака (45,6%). Наиболее привлекательными для себя казаки считали производство и поставки государству сельскохозяйственной продукции, участие в охране объектов государственной и муниципальной собственности, таможенной и правоохранительной службе16 *
В связи с тем, что нормативные документы предусматривали возможность размещения «реестрового» казачьего войска на территориях не менее двух субъектов федерации, совет атаманов СКВ пытался организовать Терско-Ставропольское казачье войско, но руководство Терского казачьего войска отклонило это предложение.
Подготовительная работа осложнялась совместным проживаем в крае различных групп потомков терских, кубанских, донских и иных казаков. Они образовали три течения: за присоединение к Терскому войсковому казачьему обществу; к Кубанскому ВКО; сохранение казачьих общественных организаций. Большая часть казаков поддержала первое.
Подготовку казачьих обществ Ставрополья к вхождению в государственный реестр возглавлял секретарь Совета по экономической и общественной безопасности края, умело совмещая ответственную государственную деятельность с работой в казачестве, хорошо зная его проблемы и решая их. Поддержку казачьим обществам, решившим войти в состав Терского казачьего войска, оказал и губернатор Ставропольского края. По его поручению главы администраций городов и районов края стали активнее сотрудничать с казачьими организациями, оперативно решать их проблемы, что, в свою очередь, стимулировало желание казаков сотрудничать с органами государственной власти, заниматься государственной службой.
В результате подготовительной работы 3 октября 1998 г. состоялся объединительный круг казачьих организаций Ставрополья. На нем присутствовали 436 выборных (делегатов) из 26 городов и районов. Круг учредил в крае единую казачью организацию — Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества (CKO ТКВ), утвердил его устав, избрал окружным атаманом казачьего полковника.
Первоначально СКО ТКВ состояло из И отделов, насчитывавших 16,7 тыс. казаков17. Округ был внесен в государственный реестр России в составе Терского войскового казачьего общества. Поэтому с октября 1998 г. начался пятый этап процесса возрождения казачества на Ставрополье — организация государственной службы. В результате принятых мер в январе 1999 г. округ состоял из 18 отделов, объединявших около 17 тыс. чел. Он стал основой дальнейшего развития системы казачьих обществ Ставропольского края.
По численности и уровню организованности СКО ТКВ занимает лидирующее положение в Терском войсковом казачьем обществе. Казаки Ставрополья оказывают социально-политическую, экономическую и моральную поддержку казачьим обществам республик региона. В состав округа входили Наурский, Грозненский и Терско-Гребенский отделы Чеченской Республики. В апреле 2002 г. они организовали Терско-Сунженское окружное казачье общество ТКВ со штабом в станице Наурской. В настоящее время СКО ТКВ является самым многочисленным в составе Терского войскового казачьего общества. В мае 2003 г. оно имело 28,4 тыс. строевых казаков, активно участвующих в общественно-политической жизни региона.
В 1996 г. казаки Ставрополья сформировали 694 отдельный мотострелковый казачий батальон им. генерала А.Ермолова, который участвовал в восстановлении конституционного порядка в г.Грозный, населенных пунктах Орехово, Старый Ачхой, Бамут и др. Реализуя возможности государственной службы, казаки укомплектовали две комендантские роты ВВ МВД РФ и две отдельные мотострелковые роты МО РФ для службы в Наурском и Шелковском районах Чеченской Республики.
В ходе эксперимента МВД РФ (1999—2001 гг.) казаки стали служить в 10 ротах патрульно-постовой службы милиции в восточных и юго-восточных районах Ставрополья, отличающихся нестабильными межэтническими отношениями, повышенной криминогенностью. Результаты эксперимента показали, что казаки-милиционеры локализуют конфликты, ведут большую профилактическую работу. В охране общественного порядка на территории Ставрополья в составе добровольных казачьих дружин участвуют около 8 тыс. строевых казаков СКО ТКВ. Они первыми приходили на помощь милиции и пострадавшим от террористических актов, совершенных на территории Ставропольского края, а также во время ликвидации последствий стихийных бедствий в 2002 г. Значительную работу проводят казачьи общества края по развитию своей экономики и культуры, системы образования и военно-патриотического воспитания молодежи.
Вместе с тем решение вопросов предоставления казакам льготных кредитов на обустройство новых земель и организацию фермерских хозяйств, решение ряда других актуальных проблем в органах государственной власти и местного самоуправления региона сопряжено с немалыми трудностями. Например, из 42 тыс. га сельскохозяйственного назначения, входящих в краевой казачий целевой земельный фонд,«казачьи общества получили и используют только 22 тыс. га. Таким образом сегодня можно подвести лишь предварительные итоги возрождения казачества. Казачество пока не заняло в социально-политической и экономической жизни региона место, адекватное его возможностям, не выполняет тех социальных функций, на которые способно. Есть значительные недостатки во взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления, с казачьими обществами и организациями. Значительное количество ранее принятых нормативно-правовых документов устарело. В частности, из 11 видов государственной и иной службы, предусмотренных законодательством для казачества, реальна только контрактная воинская служба в Чечне. Но и она плохо организована, не имеет адекватного материально-технического обеспечения. Для более активного использования созидательного потенциала казаков необходимо на федеральном, краевом и местном уровнях формировать устойчивую систему государственных и общественных организаций, нацеленную на создание государственно-общественного механизма возрождения российского казачества и его привлечения к государственной службе. Для правового обеспечения возрождения казачества в регионе Государственная Дума Ставропольского края подготовила проект краевого закона «О казачестве в Ставропольском крае», который принят в первом чтении в мае 2003 г.
Как показал Большой круг казачьих войск России, проходивший 25 мая 2003 г. в г. Ставрополе, дальнейшее развитие казачьих обществ в субъектах Российской Федерации продолжается и требует для выявления общероссийских закономерностей разработки научно обоснованных рекомендаций ор-га-нам государственной власти и казачьим обществам. Очевидно, что над решением этой проблемы предстоит работать ученым и практикам.
Список литературы Проблемы возрождения казачества Северного Кавказа
- Русский обзор. 1992. № 1/2. С. 14.
- Доклад советника Президента России генерал-полковника Трошева Г.Н. // Протокол Большого круга казачьих войск России, г.Ставрополь,25 мая 2003 г.
- Бондарев В.П. Чечня - незаживающая рана терских казаков // Казачий Терек. 2003. № 3/4.
- История Донского казачества. Ростов н/Д, 2001. С. 369-372.
- Месячко А., Смольняков А., Ремез В. Казаки на Ставрополье // Казачий Терек. 1999. № 2.