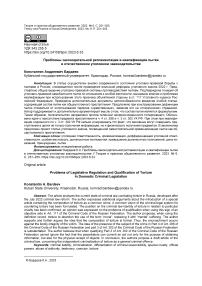Проблемы законодательной регламентации и квалификации пытки в отечественном уголовном законодательстве
Автор: Бардеев Константин Андреевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен анализ современного состояния уголовно-правовой борьбы с пытками в России, сложившегося после проведения июльской реформы уголовного закона 2022 г. Представлено общее видение уголовно-правовой системы противодействия пыткам. Подтверждена позиция об уголовно-правовой самобытности пытки по отношению к особой жестокости; высказано мнение о проблемах квалификации при использовании этого признака объективной стороны в ст. 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приведены дополнительные аргументы целесообразности введения особой статьи, содержащей состав пытки как общеуголовного преступления. Предложено при конструировании дефиниции пытки отказаться от использования термина «нравственные», заменив его на «психические» страдания. Автор поддерживает и дополнительно аргументирует мысль о том, что состав пытки является формальным. Таким образом, посягательство направлено против телесной неприкосновенности потерпевшего. Обоснована идея о присутствии предмета преступления в ч. 4 ст. 286 и ч. 3 ст. 302 УК РФ. При этом при квалификации содеянного по ч. 3 ст. 302 УК РФ нельзя игнорировать тот факт, что виновные могут совершать преступление в целях не только получения информации, но и физического получения предметов. В заключение предложен проект статьи уголовного закона, посвященной самостоятельной криминализации пытки как общеуголовного преступления.
Уголовная ответственность, криминализация, дифференциация уголовной ответственности, особая жестокость, должностные полномочия, превышение должностных полномочий, дача показаний, принуждение, пытка
Короткий адрес: https://sciup.org/149142982
IDR: 149142982 | УДК: 343.255.5 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.33
Текст научной статьи Проблемы законодательной регламентации и квалификации пытки в отечественном уголовном законодательстве
После июльской реформы уголовного закона в 2022 г. объем законодательного воздействия на такую форму преступного поведения, как пытка, был несколько снижен. Пытка исчезает из числа квалифицированных видов истязания, переместившись, однако, в особо квалифицированные виды превышения должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ) и принуждения к даче показаний (ч. 3 ст. 302 УК РФ). Таким образом, меняется и субъектный состав преступления: в первом случае – это должностные лица, во втором – следователи, лица, производящие дознание, иные сотрудники правоохранительного органа, а равно другие лица, действующие с ведома или молчаливого согласия указанных категорий. Но это не устранило проблемы законотворчества в уголовно-правовой сфере и квалификации преступлений, а в определенных случаях поставило новые.
Действительность свидетельствует о том, что данное явление – применение пытки – распространено. Однако в судебной практике случаи квалификации деяния как совершенного с применением пытки достаточно редки. Так, приговором Костомукшского городского суда Республики Карелия гражданин был осужден по п. «д» ст. 117 УК РФ в связи с тем, что умышленно и неоднократно причинял физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев с применением пытки супруге. Суд установил, что пытки применялись в целях признания факта супружеской неверности1.
Методика данного исследования определяется комплексным подходом. Прежде всего используются всеобщий диалектический метод, методы формальной логики (классификация, определение), сравнительно-правовой метод, метод анализа юридических текстов и др. Обобщение результатов социологических опросов, проведенных разными исследователями, показывает, что через пытки (в органах полиции) прошло 10 % респондентов, из их числа 67 % составили мужчины. Чаще всего пытки применяются к лицам в возрасте 25–39 лет (39 %) и 40–54 лет (30 %). К пожилым и молодым пытки применялись значительно реже (23 и 8 % соответственно). Среди процессуальных действий, при которых использовались пытки, лидируют допрос в качестве свидетеля (31 %), при задержании (30), допрос в качестве подозреваемого (28 %).
Приведем информацию относительно пытки в сопредельном государстве. По мнению опрошенных жителей страны (84,7 %), пытка наиболее часто встречается в практике правоохранительных органов. Однако по состоянию на 2018 г. по данной статьей уголовные дела не возбуждались (Дзидзария, 2018: 71). Это свидетельствует о том, что отечественным органам следует уделять внимание не только законодательной регламентации, но и в большей степени – практическому применению соответствующих норм.
Отметим сразу, что мы придерживаемся идеи широкого рассмотрения пытки, в том числе как общеуголовного посягательства на личность. Такая точка зрения уже высказывалась ранее в литературе и встретила разные оценки2 (Дворянсков, 2003; Кондрашова, 2000: 240–242; Панкратов, 2005: 39; Серебренникова, Лебедев, 2019). Однако наши подходы к криминализации пытки по сравнению с позициями других уважаемых исследователей по данному вопросу разнятся по ряду моментов.
Мы считаем, что пытка должна присутствовать в УК РФ в трех ипостасях: 1) самостоятельный состав общеуголовного преступления против жизни и здоровья; 2) квалифицирующий признак ряда преступлений; 3) обстоятельство, отягчающее наказание.
Проводя реформу уголовного закона в 2022 г., законодатель в качестве альтернативы пытке в п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ предложил особую жестокость, что несколько сомнительно. Во-первых, истязание в ч. 1 ст. 117 УК РФ предполагает систематичность действий. Таким образом, для квалификации по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ необходимо, чтобы с особой жестокостью осуществлялись именно систематические действия, как того и требовала предыдущая редакция п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Но как быть в ситуации, если виновный совершил насильственные дей- ствия однократно, применив особую жестокость? При этом вред здоровью причинен не был. Получается, что последняя (жестокость) выпадает из квалификации, так как содеянное не может получить уголовно-правовую оценку как истязание.
Во-вторых, возникает вопрос, является ли особая жестокость синонимом пытки. Об этом уже говорилось в литературе (Аллаева, Абзалова, 2021: 369; Апкаев, Зыков, 2020: 19; Логунова, 2008: 140). При всей схожести данных понятий по объему они совпадают не полностью. Пытка может и не предполагать именно особо жестоких методов, нарушения целостности организма, существенного травмирования психики, моральных мучений. Например, виновный применяет психическое насилие (пытку), требует от потерпевшего совершения любых действий (при отсутствии признаков вымогательства). В ряде случаев потерпевший может не испытывать нравственных страданий. Вор, пойманный на месте совершения преступления рядовыми гражданами, может подвергнуться психическому насилию с их стороны. Цель – добиться признания преступника. Испытывает ли при этом расхититель нравственные страдания? Думается, что нет. Им движет только цель – избежать уголовной ответственности. Тем более что такие действия не подпадают под определение пытки, данное в примечании 1 к ст. 286 УК РФ. Сам термин «нравственность» является оценочным и имеет специфическое философское содержание. Таким образом, будет более корректным заменить термин «нравственные» (при характеристике страданий) на термин «психические».
Переходя к оценке объективной стороны пытки, отметим, что как законодательная дефиниция пытки (« причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания»), так и определения ряда авторов формулируют состав пытки как материальный. Это значит, что для привлечения виновного к уголовной ответственности за пытку следствию необходимо доказать факт наступления общественно опасных последствий. Если в случаях применения физического насилия этот вопрос может решаться легко, то в отношении нравственных страданий могут возникнуть сложности. Здесь камнем преткновения является понимание того, что такое нравственные страдания.
Допустим, сотрудники правоохранительных органов применяют пытку в целях принуждения к даче показаний. Их задачей является исключительно получение сведений о местонахождении похищенного имущества. Действуют они лишь в рамках угроз. Причиняют ли они тем самым нравственные страдания допрашиваемому? Последний, возможно, испытывает страдания, но не нравственные, а психологические. Его целью, мотивом выступает корысть, т. е. нежелание расставаться с похищенным имуществом.
Таким образом, в данном случае считаем, что указание на последствия в составе соответствующих преступлений (нынешних и будущих), предусматривающих пытку как обязательный объективный признак, является излишним. Следовательно, состав при этом будет формальным. Дополнительным объектом будет выступать физическая неприкосновенность потерпевшего. В случае введения пытки как общеуголовного преступления физическая неприкосновенность трансформируется уже в основной непосредственный объект.
Говоря о предмете пытки, можно утверждать, что в составах преступлений, предусмотренных в ч. 4 ст. 286 и ч. 3 ст. 302 УК РФ, он присутствует и имеет значение для квалификации деяния. Так, в ч. 4 ст. 286 УК РФ говорится о превышении должностных полномочий, совершенном с применением пытки. Исходя из содержания примечания 1 к данной статье, пытка применяется специальными субъектами, в том числе в целях получения от потерпевшего сведений или признания. Естественно, в большинстве случаев указанная информация добывается в рамках доследственной проверки сообщения о преступлении, проведения оперативных мероприятий. Случаи, когда пытки применяются к участникам уголовного судопроизводства, имеющим определенный процессуальный статус, квалифицируются уже по ст. 302 УК РФ. Впрочем, превышение должностных полномочий может осуществляться и не в рамках правоохранительной деятельности.
Таким образом, мы считаем, что сведения, добытые в рамках проведения оперативных мероприятий под воздействием пытки, и есть предмет преступления, предусмотренного в ч. 4 ст. 286 УК РФ. Данное утверждение, естественно, является по отношению к ст. 286 УК РФ частным случаем.
Часть 1 ст. 302 УК РФ устанавливает ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, потерпевшего или свидетеля к даче показаний либо эксперта или специалиста к даче заключения или показаний. Таким образом, целью субъекта деяния являются не просто показания или заключение. Доказательственную силу они имеют только будучи надлежаще процедурно оформленными в виде соответствующих процессуальных документов. Следовательно, предметом принуждения к даче показаний выступают предусмотренные УПК РФ материальные носители информации (процессуальные документы в виде протоколов, заключений), содержащие признательные показания, показания иных участников уголовного процесса.
Если целью субъектов преступления является принуждение лица под пыткой физически выдать вещественные и другие доказательства, то они также будут служить предметом преступления, хотя о таких видах доказательств статья 302 УК РФ умалчивает. Соответственно, в последнем случае этот пробел следует устранить, так как, применяя пытку, квалифицируемую по ст. 302 УК РФ, правоохранительные органы могут добиваться не только сообщения им интересующих следствие сведений, но и физической выдачи определенных предметов.
Продолжим далее анализ объективной стороны. Обращаясь к поддерживаемой нами идее криминализации пытки как общеуголовного преступления, считаем неправильным оставлять за пределами возможной редакции ее состава такие признаки, как характеристики потерпевшего и факультативные признаки объективной стороны. Например, совершение пытки в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, не должно находиться только в орбите соответствующего отягчающего наказание обстоятельства. Здесь уместны такие средства дифференциации уголовной ответственности, как конструирование соответствующих квалифицирующих признаков.
Отметим также, что законодательный опыт некоторых зарубежных стран позволяет включить средства и орудия в состав гипотетической статьи о пытках. В истории уголовного процесса можно найти множество примеров подобных приспособлений. Так, в частности, использование электротока, термических факторов, несомненно, повышает степень общественной опасности пытки.
По нашему мнению, неудачной с точки зрения законодательной техники является конструкция объективной стороны преступления в действующей редакции ч. 4 ст. 286 УК. Применяя ее в совокупности с ч. 1 той же статьи, получаем совершение должностным лицом действий, совершенных с применением пытки (явная тавтология). Видимо, законодателю стоит говорить о действиях, выражающихся в том числе в применении пытки.
Нельзя не упомянуть о применяемых в последнее время способах воздействия на потерпевшего, таких как психотропный террор (Лозовицкая, 2012) и применение веществ, искажающих восприятие действительности и подавляющих волю (Журтов, 2017: 119; Константинов, 2000). Полагаем, что на уровне высшей судебной инстанции в соответствующем постановлении Пленума Верховного суда РФ необходимо особо оговорить отнесение применения этих средств к психическому насилию и пытке.
Итак, определим, какие признаки должен включать состав пытки как общеуголовного преступления. Основной непосредственный объект - общественные отношения в сфере обеспечения личной неприкосновенности. При этом предлагаемая статья в структуре гл. 16 УК РФ должна занимать место сразу же после ряда преступлений, связанных с реальным причинением вреда здоровью. Обозначим ее как ст. 115.1 УК РФ.
Объективная сторона включает общественно опасное деяние (действие или бездействие) в виде применения интенсивного физического или психического насилия к потерпевшему или третьему лицу. Как отмечалось ранее, состав по конструкции должен быть формальным, поэтому последствия выходят за рамки такового и не предусматриваются в качестве его обязательного признака.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Кроме того, в качестве обязательного ее признака должно выступать наличие специальных альтернативных целей - получение информации, наказание, запугивание, принуждение, дискриминация или иные сходные с ними цели.
Субъект общий, т. е. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В случае учинения деяния лицами, указанными в ст. 286 и 302 УК РФ, иными словами, специальными субъектами, перечисленными ранее, ответственность должна наступать по данным статьям.
Формулируя круг квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков пытки, исходим из того, что они могут быть связаны со свойствами потерпевших, фактом применения определенных способов, орудий или средств совершения преступления, совершением посягательства группой лиц, фактическим причинением того или иного вреда здоровью жертвы.
Таким образом, в число квалифицирующих признаков включаем следующие: а) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; б) малолетнего, а равно иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; в) с использованием способов, средств или орудий, заведомо причиняющих сильную физическую боль или заранее приспособленных для совершения пытки; г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) с причинением вреда здоровью (дифференцируемого на квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки в зависимости от его вида - легкий, средней тяжести, тяжкий либо не опасный / опасный для жизни или здоровья), сопряженного с вымогательством.
Итак, с учетом результатов анализа считаем возможным предложить теоретическую модель диспозиции статьи, предлагаемой к введению в УК РФ:
«Статья 115.1. Пытка
Применение интенсивного физического или психического насилия в целях получения информации, наказания, запугивания, принуждения, дискриминация или иных сходных с ними целей – наказывается…».
Список литературы Проблемы законодательной регламентации и квалификации пытки в отечественном уголовном законодательстве
- Аллаева З., Абзалова К. Уголовно-правовые аспекты умышленного убийства с особой жестокостью // Общество и инновации. 2021. Т. 2, № 3. С. 366-72. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss3/S-pp366-372.
- Апкаев Д.М., Зыков Д.А. Особая жестокость как оценочная категория // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-2. С. 18-21. https://doi.org/10.23672/f4694-6084-9050-q.
- Дворянсков И.В. Уголовная ответственность за пытку и иное бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с заключенными // Уголовное право. 2003. № 4. С. 19-21.
- Дзидзария Б.Ю. Уголовно-правовые меры, противодействующие принуждению к даче показаний, в Республике Абхазия // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. № 4. С. 69-72.
- Журтов А.Б. Применение пытки при истязании: некоторые проблемы квалификации // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 4. С. 118-120.
- Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. 348 с.
- Константинов П. Уголовная ответственность за истязание // Законность. 2000. № 4. С. 8-10.
- Логунова С.О. Вопросы квалификации истязания с применением пытки // Бизнес в законе. 2008. № 1. С. 138-140.
- Лозовицкая Г.П. Психотропный террор в отношении участников уголовного судопроизводства // Научный портал МВД России. 2012. № 4. С. 81-87.
- Панкратов В. Ответственность за пытку в уголовном законодательстве Российской Федерации // Уголовное право. 2005. № 4. С. 38-40.
- Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Необходимо ли введение в Уголовный кодекс РФ нормы, устанавливающей ответственность за пытки? // Colloquium-Journal. 2019. № 16-6 (40). С. 81-83. https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10526.