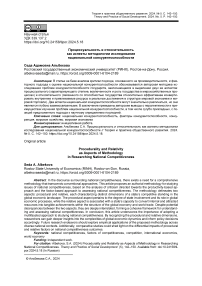Процессуальность и относительность как аспекты методологии исследования национальной конкурентоспособности
Автор: Альбекова С.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на базе анализа критики подхода, основанного на производительности, и факторного подхода к оценке национальной конкурентоспособности обосновывается авторская методика исследования проблем конкурентоспособности государств, заключающаяся в выделении двух ее аспектов: процессуального (характеризующего степень вовлеченности и роль государства в мирохозяйственных процессах) и относительного (связанного со способностью государства относительно эффективнее конвертировать внутренние и привлекаемые ресурсы в реальные достижения в структуре мировой экономики и мировой торговли). Два аспекта национальной конкурентоспособности могут значительно различаться, но они являются глубоко взаимосвязанными. В заключение приведены авторские выводы о перспективности и преимуществах изучения проблем национальной конкурентоспособности, в том числе сугубо прикладных, с позиций предложенного подхода к научному определению последней.
Национальная конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, конкуренция, мировое хозяйство, мировая экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145850
IDR: 149145850 | УДК: 339.137.2 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.18
Текст научной статьи Процессуальность и относительность как аспекты методологии исследования национальной конкурентоспособности
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия, ,
Введение в проблему . В условиях активизации в 1990-х гг. трендов глобализации и либерализации мировой экономики, превращения последней в систему национальных экономических систем и транснациональных конструктов распределения как готовой продукции, так и факторов производства были трансформированы структура и содержание конкурентной борьбы, сложившаяся система международного разделения труда.
Помимо количественного увеличения показателей интенсивности конкуренции, в силу инновационной модернизации, формирования мирового рынка технологий, информации, гипертрофированного расширения высокотехнологичных сфер, мобилизации капитала наблюдаются и качественные деформации конкурентной борьбы как характеристики мирового хозяйства. Конкуренция, аккумулировавшая достижения и следствия тенденций унификации потребительских предпочтений, научно-технической революции, формирования мирового коммуникационного пространства, информационного ресурса, социальной реструктуризации в результате постиндустриализации и пропаганды потребительского образа жизни, определила изменения в структуре и содержании факторов конкурентоспособности стран.
На фоне превращения повышения конкурентоспособности в важнейший ориентир стратегического развития макроэкономических систем мира в условиях обостряющейся мировой конкуренции становится актуальной проблематика определения их конкурентных преимуществ, внутреннего взаимодействия, особенностей формирования за счет как национального ресурса, так и приобретенного извне.
Национальная конкурентоспособность: факторы и источники . В попытках увязать стратегические интересы государств с необходимостью функционирования национальных экономических систем в условиях конкуренции на международных рынках формируются определения национальной конкурентоспособности авторитетных международных организаций.
Так, ОЭСР трактует национальную конкурентоспособность как способность нации производить в условиях свободного и справедливого рынка товары и услуги, которые отвечают требованиям международных рынков, одновременно сохраняя и увеличивая реальные доходы своего народа в долгосрочной перспективе. Международный институт развития менеджмента IMD (издающий Ежегодник мировой конкурентоспособности) определяет конкурентоспособность государства как область экономической теории, анализирующую политику и факты, которые формируют способность нации создавать и поддерживать среду, содействующую созданию большей стоимости для ее предприятий и большему процветанию ее народа. Всемирный экономический форум – как способность добиться успеха на международных рынках для повышения уровня жизни всей нации1.
Выявленное противоречие в особенностях конкуренции между государствами и локализованными в них предприятиями определило дальнейшие направления научных исследований в сфере национальной конкурентоспособности, сопряженные в первую очередь с поиском ее факторов и главных движущих сил, которые, по мнению основоположников, могут совпадать, детерминируя конкурентоспособность как на микроуровне, так и на уровне макроэкономической си-стемы2. К факторам, способным стимулировать конкурентоспособность как страны, так и функционирующего на ее территории производства (отраслей), логично относили трудовые ресурсы (Белов, 2011), производительность труда, качество и масштаб применения технологий (Гарма-шова, 2019), позиционирование в международном разделении труда, практикуемые модели корпоративного менеджмента и государственного управления, а также, безусловно, наличие и доступность природных ресурсов.
Перечисленные детерминанты, равно как и динамика их изменений и воздействия на показатели конкурентоспособности как государства, так и его национального предпринимательства, непосредственно зависят от следующих факторов. Во-первых, от роли государства, содержания и качества реализации национальной социально-экономической политики, даже такие критерии, как культурные и моральные принципы общественного устройства, способны на них воздействовать (например, отношение людей к богатству, инновациям, склонность населения к риску и предпринимательству, уровень демократии и специфика отношений между народом и властью и т. д.) (Родина, 2021). Во-вторых, от наличия у государства возможностей эксплуатировать «внешние» факторы обеспечения прогресса и повышения конкурентоспособности, такие как иностранный капитал, технологии, рабочую силу (в особенности обладающую высокой квалификацией), зарубежный спрос на местную продукцию, равно как и дающие стране возможность избегать негативных последствий глобальных или макрорегиональных потрясений (включая природные катастрофы, политические кризисы), негативной динамики мирохозяйственной конъюнктуры и т. д.
Со времени введения в научный оборот Р.Э. Холлом и Ч.И. Джонсом понятия социальной инфраструктуры и анализа ее как среды, конвертирующей экономическую эффективность в общественные блага, задающей динамику социального (в том числе инновационного) прогресса (Hall, Jones, 1999), важным фактором национальной конкурентоспособности стала эффективность институтов. Ряд исследований выявил значительную долгосрочную связь между экономическим процветанием и природой институтов (Acemoglu et al., 2021), в особенности примата закона (La Porta et al., 1998), защиты прав собственности (De Soto, 2000), качества государственного управления (Kaufmann et al., 2008), уровня коррупции (Mauro, 1995), а также состояния образования, здравоохранения и правоохранения (Sachs, Warner, 1995).
Другой фактор макроэкономической конкурентоспособности – денежно-кредитная и фискальная политика – стал центральным элементом дискурса (Fischer, 1993), несмотря на краткосрочность воздействия на производительность, зависимость собственного качества от институционального обеспечения, свойственного различным государствам и народно-хозяйственным моделям (Acemoglu et al., 2003), отсутствие единых четких ориентиров и критериев «хорошей» денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики (например, несмотря на уверенность одних ученых в необходимости достижения низкой инфляции (Goodfriend, 2007), другие обосновывают стимулирующий долгосрочную производительность эффект умеренной инфляции (Levine, Renelt, 1992)). Аналогичная двусмысленность существует в отношении «нормального уровня государственного долга» (Reinhart, Rogoff, 2010), предела государственных расходов (Tax and economic growth, 2008) и т. д.
Можно агрегировать многочисленные исследования в области факторов конкурентоспособности (исходя из популярности и методологической востребованности) в рамочную модель (таблица 1), объединяющую, с одной стороны, факторы микро- и макроэкономической конкурентоспособности, с другой – основные сферы формирования конкурентных преимуществ макро- и микроэкономического уровней.
Таблица 1 – Основные направления исследований факторов национальной конкурентоспособности 1
Table 1 – The Main Directions of Research on the Factors of National Competitiveness
|
Макроэкономическая конкурентоспособность |
|||
|
социальная инфраструктура и общественные институты |
фискальная и монетарно-бюджетная политика |
||
|
Толикова, Степанов, 2018; Хомутова, Мищенко, 2006; Шкиотов, 2013; Acemoglu et al., 2003, 2021; De Soto, 2000; Hall, Jones, 1999; Kaufmann et al., 2008; La Porta et al., 1998; Mauro, 1995; Sachs, 2005; Sachs, Warner, 1995 |
Камилова, Ходжаева, 2010; Acemoglu et al., 2003; Barro, 2002; Fischer, 1993; Goodfriend, 2007; Levine, Renelt, 1992; Tax and economic growth, 2008; Temple, 2000 |
||
|
Микроэкономическая конкурентоспособность |
|||
|
качество деловой среды |
уровень кластеризации экономики |
опыт корпоративного управления |
|
|
В том числе: – состояние инфраструктуры: Calderon, Serven, 2004; Garcia-Milà et al., 1996; Gramlich, 1994; – доступ к капиталу: Aghion et al., 2005; Ang, 2008; King, Levine, 1993; – качество рабочей силы: Barro, 2002; Gennaioli et al., 2013; Krueger, Lindahl, 2001; – инновационность среды: Fagerberg et al., 2007; Furman et al., 2002; – уровень внутренней конкуренции: Швандар, 2010; Шевченко, Александрова, 2006; Carlin et al., 2005; Lewis, 2004; Porter, Sakakibara, 2004 |
Мурадов, Юзбашиева, 2008; Delgado et al., 2014; Feldman, Audretsch, 1999; Glaeser, Kerr, 2009 |
Bloom, Van Reenen, 2007; International differences…, 2009 |
|
Альтернативная концепция национальной конкурентоспособности . Мы придерживаемся точки зрения, что национальная конкурентоспособность имеет следующие особенности:
– не является расширенным пониманием и функцией конкурентоспособности национального предпринимательства (мы допускаем существование национальных социально-экономических моделей, успешных с позиции достижения ориентиров и целей развития, между тем не
1 Составлено автором.
предоставляющих институциональных или инфраструктурных возможностей для формирования полноценных и глобально конкурентоспособных национальных компаний, отличные экономические достижения которых возможны либо только на внутреннем рынке, либо в силу государственной поддержки);
-
– не является результатом сложения конкурентоспособности входящих в состав государства территорий (мы допускаем, что в составе страны могут быть отдельные регионы, конкурентоспособность которых существенно превышает национальную; равно как и допускаем синергетический потенциал межрегионального взаимодействия, уникальность национальной межотраслевой и межрегиональной структур, способной стимулировать повышение конкурентоспособности на уровне страны);
-
– основана на уникальности локальных (национальных) географических, культурных, исторических условий хозяйствования (мы допускаем, что крайне конкурентная национальная экономическая модель не является панацеей для всего остального мира, может оказаться провальной в естественных условиях хозяйствования в других странах);
-
– не зависит от размера страны, ее экономической роли, но при этом зависит от экономической мощи государства, его возможности влиять на структуру и содержание мирохозяйственных связей, отстаивать свои интересы и стратегические приоритеты;
-
– не зависит от локализации государства, его географической удаленности от признанного мирового экономического авангарда (обычно современные центры концентрации капитала и мирового потребления), однако во многом зависит от расположения государства относительно мировых производственно-распределительных потоков (что косвенно влияет на усиление факторов национальной конкурентоспособности).
В целях составления авторского подхода к решению проблемы научного определения именно национальной конкурентоспособности, исключающего дальнейшие споры о ее доминирующих факторах, взаимосвязи национальной конкурентоспособности и конкурентоспособности национального предпринимательства, можно выделить два аспекта первой, каждый из которых имеет границы, приоритеты, формы проявления, факторы и потенциал сравнительной оценки. Во-первых, конкурентоспособность страны можно рассматривать как ее способность влиять на мирохозяйственные процессы, задавать траекторию развития последних, обеспечивать себе большую устойчивость и автономность от негативных явлений в мировой экономике (динамики конъюнктуры мировых рынков, кризисов), равно как и доступ к внешним ресурсам хозяйственного прогресса (инвестициям, технологиям, квалифицированному труду и т. д.). Во-вторых, национальную конкурентоспособность можно трактовать как детерминированную географической, культурной, исторической, хозяйственной спецификой способность национальной экономической системы конвертировать внутренний и внешний ресурсы роста в ее реальные достижения в мировом производстве и/или мировой торговле более эффективно, чем другие национальные экономические системы.
В дальнейшем первый аспект национальной конкурентоспособности будем называть как процессуальный (основанный на процессуальности мирохозяйственных связей), а второй – как относительный (определяющий эффективность, производительность национальной экономической системы только в сравнении с другими).
Процессуальность мирохозяйственных связей определяется их динамикой, способностью к управлению, прогнозированию, стратегическому планированию, а также возможностью государств к различного уровня влиянию на эти процессы (от непосредственного контроля и задавания траектории развития до адаптации). Мирохозяйственный процесс исходит из трансформации позиций государств в мировой экономике, системе международного разделения труда, транснациональных потоках товаров, услуг, факторов производства, динамики экономического роста, межотраслевого взаимодействия на мировых рынках, темпов транснационализации бизнеса и т. д.
Положение страны в мирохозяйственных связях, ее принадлежность к государствам мирового авангарда или периферии, к акторам мировой экономической политики или исполнителям экономических решений, инициированных извне, невозможно определить с позиций макроэкономических показателей и объективной статистической оценки (например, сравнивая ВВП на душу населения, уровень бюджетных расходов, достигнутые показатели человеческого капитала или развития и т. д.). Его необходимо оценивать только с учетом вертикального характера отдельных (либо даже большинства) мирохозяйственных связей. Вертикальность таких связей официально не допустима (с точки зрения правового статуса современных государств, концептуальных идей международных экономических организаций), между тем постоянно присутствует и определяет структуру и содержание современной внешнеэкономической деятельности. Вертикальность мирохозяйственных связей основана на способности одного государства прямо либо косвенно воздействовать на волю и интересы другого государства как субъекта мировой экономики, определять или контролировать его внешнеэкономическую деятельность, динамику прогресса (например, за счет регулирования доступа к внешним ресурсам). Основные причины вертикализации мирохозяйственных связей широко известны:
-
– сложившаяся система разделения труда, репозиционирование страны в которой в большей степени зависит от факторов мировой экономики, нежели от внутреннего потенциала и возможностей;
-
– сокращение зависимости национального производства от внутреннего потребления, усиление экспортной ориентации национальной экономики;
-
– дифференцированность и фрагментарность мирового рынка капиталов;
-
– распространение в мировом хозяйстве взаимосвязи по типу «кредитор – должник»;
-
– глобальная иерархия валют, сложившаяся во второй половине ХХ в.;
-
– асимметричность глобальной инфраструктуры международного трансфера технологий, инноваций, интеллектуальной собственности;
-
– устойчивость потоков высококвалифицированной рабочей силы, неквалифицированных работников между государствами;
-
– радиальная структура информационных потоков (распространители и адресаты информации), что создает для адресатов ряд недостатков с точки зрения не только увеличения затрат, но и культурного эффекта.
Многовекторность и вертикальность мирохозяйственных процессов, равно как и многоас-пектность вовлеченности в них государств, ограничивают инструментарий объективной оценки процессуальной национальной конкурентоспособности, выводят его за пределы сугубо экономической науки и методологии, превращая в объект и политологических, культурологических, социальных, технологических исследований.
В настоящее время сравнивать или оценивать процессуальную конкурентоспособность государств не представляется возможным прежде всего из-за отсутствия как логичного аппарата оценок (например, в какой пропорции воздействуют на процессуальную конкурентоспособность различного рода эффективности внешняя и внутренняя политика, аналогично – каким образом и с каким коэффициентом вклада в итоговую оценку определять внешнеполитические, внешнеэкономические, культурные и иные мировые достижения страны, как комбинировать и оценивать вертикальные мирохозяйственные процессы, в которых одна и та же страна может быть как субъектом влияния, так и его объектом, и т. д.), так и системы объективных показателей.
Отдельные критерии процессуальной национальной конкурентоспособности (условно относимые), например такие, как степень политического влияния стран, туристическая привлекательность государств, привлекательность для эмиграции, распространенность национального языка как иностранного для изучения, цитируемость местных авторов, ученых и т. д., уже активно составляются и тиражируются (вместе с тем зачастую подобные рейтинги формируются на данных экспертных оценок либо сомнительных методиках расчета). Вместе с тем попытки комбинирования и сочетания уже имеющихся рейтингов в некий комплексный рейтинг, характеризующий процессуальную национальную конкурентоспособность, в настоящее время широко в науке не представлены.
В «относительном» аспекте национальную конкурентоспособность можно оценить, только сравнивая возможности конвертации внутреннего и привлеченного внешнего ресурсного потенциала в реальные достижения в динамичной структуре мировой экономики в целом и мировом экспорте в частности (как косвенное подтверждение глобальной конкурентоспособности не только товаров национального производства, но и локальных бизнес-процессов, моделей управления, эффективности производственно-распределительных систем и т. д.) одной народнохозяйственной модели с аналогичными показателями другой модели за соответствующий период. При этом процесс такого сравнения должен быть совершенно абстрагированным от попыток оценивать факторные условия экономической эффективности или производительности (что свойственно проанализированным исследованиям), например по категориям институтов, управленческого таланта, наличия кластеров и т. д., поскольку, как ранее определено, логично основываться на принципах, во-первых, отсутствия некой идеальной модели и структуры экономической системы (в сравнении с которой оцениваются прочие национальные экономики); во-вторых, допущения детерминированности специфики сложившейся национальной экономической системы (в форме, содержании, структуре) географическими, историческими, культурно-социальными и прочими условиями.
Исследование национальной конкурентоспособности должно завершаться на этапе сравнительной оценки государств в конкретный момент, тогда как анализ причин или факторов, например, стремительного возрастания относительной конкурентоспособности одного государства в конкретный исторический момент должен осуществляться по поводу отдельного, вне рамок относительной национальной конкурентоспособности, объекта исследования. Он должен изучаться отдельно, в условиях каждой конкретной страны (например, для выяснения вероятных последствий заимствования зарубежного опыта стимулирования иностранных инвестиций, методов управления, формирования производственно-распределительных комплексов и т. д.), исключая саму идею существования неких универсальных средств и рекомендаций по стимулированию национальной конкурентоспособности.
Выводы . Данное двухаспектное видение национальной конкурентоспособности:
-
– во-первых, ограничивает потенциал применения чисто экономических теорий и методологии проблематикой сравнительной национальной конкурентоспособности, открывая при этом широкие горизонты оценочной деятельности в аспекте эффективности конвертации внутреннего и заимствованного потенциала в макроэкономические достижения государств (например, для развития альтернативных систем рейтингования и сравнения государств, основанных на использовании объективных количественных показателей ресурсов и результатов этой конвертации в конкретном историческом периоде);
-
– во-вторых, по сути устраняет спорные моменты теоретизации национальной конкурентоспособности, связанные, например, с доминированием утилитарности или прагматизма как принципов конкурентоспособности; убежденностью в необходимости универсализировать факторы конкурентоспособности либо концентрировать усилия государства на различных ее уровнях (например, возможная убежденность в необходимости имплементации корпоративных принципов в государственное управление, концентрация усилий на повышении конкурентоспособности регионов и самой межрегиональной конкуренции и т. д.);
-
– в-третьих, нивелирует значение фактора внутренней конкуренции как основного в формировании внешней национальной конкурентоспособности, допуская, что даже страны с низкой внутренней конкуренцией могут быть относительно конкурентоспособны в глобальном масштабе, и наоборот (что, кстати, неоднократно доказывается практикой и даже существующими, идеологически основанными на примате внутренней конкуренции рейтингами: занимающие верхние строчки мировых рейтингов государства Западной Европы либо новые индустриальные страны АТР внутри их экономических систем вовсе не представляют собой идеалы свободной конкуренции и открытости для производителей либо товаров из зарубежных государств, а их собственное правительство открыто через субсидии и протекционистские меры защищает, например, национальный агропромышленный сегмент во Франции или Нидерландах, обеспечивая последним в том числе глобальную конкурентоспособность).
Безусловно, два аспекта национальной конкурентоспособности могут существенно отличаться друг от друга (государство может быть вполне эффективным с точки зрения конвертации ресурса в мирохозяйственные достижения, но при этом всегда занимать нижнюю позицию в вертикальных мирохозяйственных процессах, и наоборот), однако они являются глубоко взаимосвязанными (при этом направленность данных взаимосвязей далеко не всегда прямая, например в условиях политики жесткой экономии ради выплат внешнего долга может быть нанесен ущерб внутренней социальной, экологической, инвестиционной политике, а активное привлечение иностранных инвестиций в том числе за счет повышения транснационализации отраслей может способствовать ограничению возможностей местных производителей), хотя и детерминированы в основном различными эффектами (процессуальная конкурентоспособность – долгосрочными, относительная – наоборот).
Таким образом, научное осмысление проблемы национальной конкурентоспособности в приоритетности объекта последней как сложной и многокомпонентной категории прошло определенные фазы, меняясь в системе координат «утилитарность – прагматизм», а также по уровням подсистем национальной экономики (от производителя до самого государства) как доминирующего объекта воздействия стимулирующих национальную конкурентоспособность правительственных инициатив. Во многом эти процессы были обоснованы политической или международной экономической конъюнктурой, свойственной конкретному историческому периоду, что во многом и определило формирование как минимум пяти главных подходов к самому понятию национальной конкурентоспособности за его относительно небольшую историю существования и научного исследования.
Справедливая критика «радикальных» утилитарных или прагматичных подходов, сознательного устранения теоретиков от вопросов определения национальной конкурентоспособности в пользу меньшего – концентрации на производительности (в первую очередь труда), классификации и последующем сравнении факторов конкурентоспособности, перспективах имплементации корпоративных мер конкурентной борьбы на государственный уровень либо определения конкурентного государства как системы конкурентных регионов – обосновала возможность определения национальной конкурентоспособности с позиций ее процессуальности и относительности.
Список литературы Процессуальность и относительность как аспекты методологии исследования национальной конкурентоспособности
- Белов А.И. Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 24. С. 204–211.
- Гармашова Е.П. Основные концепции конкурентоспособности национальной экономики // Вестник Сургутского государственного университета. 2019. № 1 (23). С. 51–57.
- Камилова М.Х., Ходжаева К.А. Макроэкономическая стабильность и повышение конкурентоспособности национальной экономики // Экономика и финансы (Узбекистан). 2010. № 3–4. С. 36–40.
- Мурадов Ш., Юзбашиева Г. Реструктуризация промышленности как средство повышения национальной конкурентоспособности // Кавказ и глобализация. 2008. Т. 2, № 4. С. 45–57.
- Родина Г.А. Конкурентоспособность национальной экономики начинается с конкурентоспособности ее социально-экономической модели // Теоретическая экономика. 2021. № 5 (77). С. 116–119.
- Толикова Е.Э., Степанов К.П. Таможенные инструменты обеспечения конкурентоспособности национального производства // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 5-2. С. 109–118.
- Хомутова А.И., Мищенко Л.Я. Оценка конкурентоспособности национальной экономики: теоретические и методические аспекты // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 20. С. 241–254.
- Швандар К.В. Роль инфраструктуры в повышении международной конкурентоспособности национальной экономики // Транспортное дело России. 2010. № 8. С. 12–15.
- Шевченко И.В., Александрова Е.Н. Роль инновационности как фактора повышения национальной конкурентоспособ-ности // Финансы и кредит. 2006. № 26 (230). С. 40–48.
- Шкиотов С.В. Роль государства в повышении национальной конкурентоспособности: вызовы глобальной экономики // Теоретическая экономика. 2013. № 1 (13). С. 43–46.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. The colonial origins of comparative development // American Economic Review. 2001. Vol. 91, no. 5. P. 1369–1401.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Thaicharoen Y. Institutional causes, macroeconomic symptoms: Volatility, crises and growth // Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 50, no. 1. P. 49–123. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(02)00208-8.
- Aghion P., Howitt P., Mayer-Foulkes D. The effect of financial development on convergence: Theory and evidence // Quar-terly Journal of Economics. 2005. Vol. 120, no. 1. P. 173–222. https://doi.org/10.1162/0033553053327515.
- Ang J. A Survey on recent developments in the literature on finance and growth // Journal of Economic Surveys. 2008. Vol. 22, no. 3. P. 536–576. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00542.x.
- Barro R.J. Inflation and growth // Handbook of Monetary Economics / ed. by J. Rabin, G. Stevens. Boca Raton, 2002.
- Bloom N., Van Reenen J. Measuring and explaining management practices across firms and countries // Quarterly Journal of Economics. 2007. Vol. 122, no. 4. P. 1351–1408.
- Calderon C., Serven L. The effects of infrastructure development on growth and income distribution // Policy Research Work-ing Paper. 2004. No. 3400. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400.
- Carlin W., Schaffer M., Seabright P. A Minimum of rivalry: Evidence from transition economies on the importance of competition for innovation and growth // Contributions in Economic Analysis & Policy. 2005. Vol. 3, no. 1. P. 17. https://doi.org/10.2139/ssrn.533085.
- De Soto H. The mystery of capital. N. Y., 2000. 277 p.
- Delgado M., Porter M.E., Stern S. (2014) Defining clusters of related industries // National Bureau of Economic Research Working Papers. Vol. 16, no. 1. P. 20375. https://doi.org/10.1093/jeg/lbv017.
- Fagerberg J., Srholec M., Knell M. The competitiveness of nations: why some countries prosper while others fall behind // World Development. 2007. Vol. 35, no. 10. P. 1595–1620. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.01.004.
- Feldman M., Audretsch D. Innovation in cities: Science-based diversity, specialization and localized competition // European Economic Review. 1999. Vol. 43, no. 2. P. 409–429. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(98)00047-6.
- Fischer S. The role of macroeconomic factors in growth // Journal of Monetary Economics. 1993. Vol. 32, no. 3. P. 485–512. https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D.
- Furman J., Porter M., Stern S. The determinants of national innovative capacity // Research Policy. 2002. Vol. 31, no. 6. P. 899–933. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00152-4.
- Garcia-Milà T., McGuire T., Porter R. The effect of public capital in state-level production functions reconsidered // Review of Economics and Statistics. 1996. Vol. 78, no. 1. P. 177–180. https://doi.org/10.2307/2109857.
- Gennaioli N., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. Human capital and regional development // Quarterly Journal of Economics. Vol. 128, no. 1. P. 105–164.
- Glaeser E.L., Kerr W.R. Local industrial conditions and entrepreneurship: How much of the spatial distribution can we ex-plain? // Journal of Economics and Management Strategy. 2009. Vol. 18, no. 3. P. 623–663. https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2009.00225.x.
- Goodfriend M. How the world achieved consensus on monetary policy // Journal of Economic Perspectives. 2007. Vol. 21, no. 4. P. 47–68. https://doi.org/10.1257/jep.21.4.47.
- Gramlich E.M. Infrastructure investment: A review essay // Journal of Economic Literature. 1994. Vol. 32, no. 3. P. 1176–1196.
- Hall R.E., Jones C.I. Why do some countries produce so much more output per worker than others? // Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114, no. 1. P. 83–116.
- International differences in the business practices and productivity of firms / ed. by R.B. Freeman, K.L. Shaw. Chicago, 2009. 288 p.
- Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance matters VII: Aggregate and individual governance indicators, 1996–2007 // World Bank Policy Research Working Paper. 2008. No. 4654. http://doi.org/10.2139/ssrn.1148386.
- King R.G., Levine R. Finance and growth: Schumpeter might be right // The Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108, no. 3. P. 717–737. https://doi.org/10.2307/2118406.
- Krueger A., Lindahl M. Education for growth: Why and for whom? // Journal of Economic Literature. 2001. Vol. 39, no. 4. P. 1101–1136.
- La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shlefer A., Vishny R. Law and finance // Journal of Political Economy. 1998. Vol. 106, no. 6. P. 1113–1155. https://doi.org/10.1086/250042.
- Levine R., Renelt D. A sensitivity analysis of cross-country growth regressions // American Economic Review. 1992. Vol. 82, no. 4. P. 942–963.
- Lewis W.W. The power of productivity. Chicago, IL, 2004. 368 p.
- Mauro P. Corruption and growth // Quarterly Journal of Economics. 1995. Vol. 110, no. 3. P. 681–712. https://doi.org/10.2307/2946696.
- Porter M.E., Sakakibara M. Competition in Japan // Journal of Economic Perspectives. 2004. Vol. 18, no. 1. P. 27–50. https://doi.org/10.1257/089533004773563421.
- Reinhart C.M., Rogoff K.S. Growth in a time of debt // American Economic Review Papers and Proceedings. 2010. Vol. 100, no. 2. P. 573–578. https://doi.org/10.1257/aer.100.2.573.
- Sachs J. The end of poverty. N. Y., 2005. 397 p.
- Sachs J., Warner A. Economic reform and the process of global integration // Brookings Papers on Economic Activity. 1995. Vol. 26, no. 1. P. 1–118. https://doi.org/10.2307/2534573.
- Tax and economic growth / Å. Johansson, C. Heady, J. Arnold, B. Brys, L. Vartia // Economics Department Working Paper. 2008. No. 620.
- Temple J. Inflation and growth: Stories short and tall // Journal of Economic Surveys. 2000. Vol. 14, no. 4. P. 395–426. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00116.