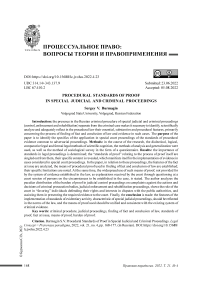Процессуальные стандарты доказывания в особых судебно-уголовных производствах
Автор: Бурмагин Сергей Викторович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: наличие в российском уголовном процессе обособленных от уголовного дела особых судебно-уголовных производств (контрольных, исполнительных и реабилитационных) вызывает необходимость выявления, научного анализа и адекватного отражения в процессуальном законе их сущностных, содержательных и процедурных особенностей, прежде всего, касающихся процесса судебного познания и доказывания по такого рода делам. Целью настоящей статьи является выявление специфики применения в особых судебных производствах, общих для состязательного судопроизводства стандартов процессуального доказывания. Методы: в ходе проведенного исследования применялись диалектический, логический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы научного познания, методы анализа и обобщения, использован так же метод социологического опроса в форме анкетирования. Результаты: определено значение стандартов в судопроизводстве, из них выделены «стандарты доказывания», которые касаются самого процесса доказывания, раскрыто их специфическое содержание, проявляющееся при осуществлении доказывания по делам, рассматриваемым в особых судебных производствах. В статье применительно к этим производствам проанализированы особенности предмета доказывания, установлены используемые в судебном познании средства процессуального доказывания, отмечена их видовая ограниченность, одновременно констатировано широкое применение такого, не предусмотренного установленной в законе системой доказательств, средства доказывания, как объяснения, получаемые судом посредством опроса в судебном заседании лиц по обстоятельствам, подлежащим установлению по делу. Автором проанализировано своеобразное распределение бремени доказывания в судебно-контрольных производствах по жалобам на действия и решения органов уголовного преследования, судебно-исполнительных и реабилитационных производствах, показана роль суда в «благоприятствовании» частным лицам, защищающим в спорах с публичной властью свои права и интересы, и оказании им содействия в представлении суду требуемых доказательств. В заключении сделан вывод: особенности реализации стандартов доказательственной деятельности, характерные для особых судебных производств, должны найти отражение в нормах закона, а применяемые средства доказывания - унифицированы и согласованы с существующей системой уголовных доказательств.
Уголовный процесс, судебное производство, судебное познание, стандарты доказывания, предмет доказывания, средства доказывания, бремя доказывания
Короткий адрес: https://sciup.org/149141619
IDR: 149141619 | УДК: 314.14+343.137.9 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2022.4.23
Текст научной статьи Процессуальные стандарты доказывания в особых судебно-уголовных производствах
DOI:
В российском уголовном процессе производство по уголовному делу является основным, но не единственным регламентированным УПК РФ. Наравне с ним в уголовном процессе присутствуют иные («неосновные»), обособленные от уголовного дела уголовнопроцессуальные (судебные) производства, чаще именуемые в литературе особыми [3, с. 5; 4, с. 42; 8, с. 7–8; 10, с. 140; 11, с. 140–141; 12, с. 42–43; 17, с. 147]. К ним относятся: а) судебно-контрольные (осуществляются в ходе досудебного производства в соответствии с полномочиями, предусмотренными ч. 2 и ч. 3 ст. 29 УПК РФ); б) судебно-исполнительные (предназначены для рассмотрения в порядке ст. 399 УПК РФ вопросов, связанных с исполнением приговора и иных решений уголовного суда); в) судебно-реабилитационные (ведутся по заявлениям-требованиям о восстановлении прав реабилитированных лиц и возмещении вреда, причиненного в процессе уголовного судопроизводства незаконными действиями органов уголовной юстиции (гл. 18 УПК РФ)) [2, с. 190–192].
Рассмотрение судебных дел в рамках перечисленных уголовных производств так же, как и рассмотрение уголовного дела, сопровождается установлением фактической основы дела. При этом процессуальное познание фактов в ходе разбирательства любого судебного дела возможно лишь посредством доказательственной деятельности, выполняемой в соответствии с нормативно определенными правилами доказывания и применением установленных законом средств доказывания.
Своеобразие предмета и целевого назначения особых судебных производств детерминирует существенные особенности познавательно-доказательственной деятельности, которые требуют теоретического обоснования и учета в правотворческой и правоприменительной деятельности. Между тем отечественная теория уголовно-процессуального доказывания посвящена преимущественно доказыванию по уголовному делу так же, как и законодатель традиционно устанавливает доказательства и подробно регламентирует процесс доказывания (разд. III УПК РФ) только для производства по уголовному делу и, вопреки насущной потребности, практически не регулирует вопросы судебного познания и доказывания применительно к иным («неосновным») судебным производствам, а это порождает неопределенность в правовой регламентации доказательственной деятельности суда и сторон, создает правоприменителю трудности при рассмотрении иных дел (материалов) в порядке уголовного судопроизводства.
Стандарты доказывания, используемые в особых судебных производствах
В процессуальной теории категория «доказывание» предстает в двух взаимосвязанных аспектах, как: а) деятельность по установлению и исследованию обстоятельств дела («доказывание – познание»); b) логическое обоснование выдвинутого или достигнутого в результате познания тезиса-утверждения («доказывание – обоснование») [5, с. 217–219; 7, с. 98; 15, с. 298–299; 18 с. 16– 17]. Солидаризируясь с превалирующим в науке мнением о единстве судебного познания и судебного доказывания, в своих рассуждениях далее будем исходить из позиции, что в рамках любого судебного производства ука- занные аспекты доказательственной деятельности не отделимы друг от друга, познавательная и аргументационная составляющие тесно взаимосвязаны и присутствуют в деятельности как сторон, так и суда. При этом и познание, и обоснование протекают в регламентированной законом форме процессуального доказывания, подчиняются определенным процессуальным правилам.
В то же время отметим, что реализуемая на практике познавательно-доказательственная деятельность в уголовном судопроизводстве не только регулируется нормативно-правовыми предписаниями, но и следует неким стандартам, имеющим правовую основу, но выработанным не законодателем, а доктриной и правоприменительной (судебной) практикой.
Разнообразные юридические стандарты («стандарты правосудия», «стандарты доказывания», «стандарты в области прав человека» и т. д.), как явления правовой действительности, привнесены в российское правосудие из западноевропейских правовых систем, и в настоящее время понятие стандартов, вопросы их происхождения, содержания и значения не имеют в отечественной науке четкого и однозначного толкования, а носят весьма дискуссионный характер. Тем не менее возьмем на себя смелость определить, что стандарты в судопроизводстве представляют собой сформировавшиеся и устоявшиеся в юридическом процессе правила, эталоны процессуального поведения, которыми участники судопроизводства руководствуются в своей практической деятельности. Полагаем, что стандарты доказательственной деятельности уместно и целесообразно разделять на «стандарты доказывания» и «стандарты доказанности». Первые касаются процесса доказывания (познания), вторые отражают его результаты [1]. К стандартам доказывания можно отнести, в частности, такие процессуальные правила познавательной и аргументационной деятельности, как «предмет доказывания», «пределы доказывания», «допустимые средства доказывания», «распределение бремени доказывания». Эти общие для уголовного судопроизводства стандарты присутствуют (используются) и в осо- бых судебных производствах, но имеют в них специфическое содержание.
Специфика предмета и пределов доказывания (познания)
Предмет доказывания, как принято считать, отвечает на вопросы: что требуется установить с помощью доказательств по делу для правильного его разрешения и что (какие обстоятельства) разрешено доказывать при производстве по делу [5, с. 49–50; 6, с. 433, 437]. Для уголовных дел общий предмет доказывания определен нормативно (ст. 73 УПК РФ), тогда как для других типов судебных производств перечень подлежащих доказыванию обстоятельств закон не регламентирует. Тем не менее круг устанавливаемых обстоятельств по каждому делу вытекает из предмета судебного рассмотрения и предопределяется характером и содержанием устанавливаемого судом конкретного правоотношения.
В обобщенном виде предмет познания (или доказывания) по делам судебного контроля охватывает совокупность фактических обстоятельств, позволяющих исчерпывающим образом судить о законности (или незаконности) и обоснованности (или необоснованности) произведенных или испрашиваемых у суда следователем, дознавателем процессуально-следственных действий или мер процессуального принуждения, а также принятых ими или иными субъектами уголовного преследования процессуальных решений, ограничивающих конституционные права и свободы человека.
По делам реабилитации и (или) компенсации вреда установлению путем доказывания подлежат: 1) сущность нарушенного права (в чем оно состоит), характер нарушения (в чем оно выразилось) и вид, объем и размер подлежащего возмещению вреда; 2) причинно-следственная связь между процессуальной деятельностью (или отдельными действиями и решениями), незаконность которых установлена в процессе предшествующего судебного производства, и нарушением конкретного права и (или) конкретным вредом, восстановления и (или) возмещения которого соответственно требует заявитель. Пределы судебного разбирательства в реабилитационных производствах определяются диапазоном противозакон- ной (необоснованной) процессуальной деятельности и ее негативных последствий для прав человека или юридического лица, послуживших основанием для восстановления прав и (или) возмещения вреда, и также ограничены, в силу принципов состязательности и диспозитивности, конкретными требованиями реабилитированного или иного лица, приобретшего право на возмещение имущественного вреда.
В судебно-исполнительных производствах предмет познания и доказывания является еще более обширным и многообразным ввиду множественности и разнородности правовых вопросов, разрешаемых в порядке гл. 47 УПК РФ. В самом общем виде его можно представить как совокупность обстоятельств, служащих основанием для изменения правового режима ограничения прав и свобод осужденного или лица, подвергнутого иным мерам уголовно-правового характера, либо для иной корректировки исполнения приговора или иного итогового решения суда. В силу действия принципа состязательности судопроизводства, пределы судебного познания по большинству судебно-исполнительных дел также ограничены существом вопроса, поставленного на разрешение суда, и правовыми требованиями инициативной стороны.
Своеобразие средств процессуального доказывания
УПК РФ, к сожалению, не содержит прямого ответа на вопрос, какими способами и с помощью каких процессуальных средств следует устанавливать обстоятельства, необходимые для правильного разрешения спорных правовых вопросов, лежащих в основе дел судебного контроля, судебно-исполнительных, реабилитационных и компенсационных дел. Закон не устанавливает для указанных производств никаких особых средств доказывания помимо тех видов доказательств, которые определены для уголовных дел, а между тем использование перечисленных в ст. 74 УПК РФ видов доказательств в иных судебных производствах весьма ограничено и специфично в сравнении с доказыванием, производимым по уголовному делу.
Согласно данным опроса, в котором приняли участие 918 практических работников
(судей, прокуроров, адвокатов), 97 % из них (в том числе 98 % судей) указали, что для установления (проверки) фактических обстоятельств по делам судебного контроля и по делам, рассматриваемым в порядке ст. 399 УПК РФ, суды используют письменные материалы, приложенные к процессуальному обращению, а 78 % респондентов (92 % судей) сообщили, что для указанных целей судами используются также дополнительные документы, представленные суду непосредственно в ходе заседания.
Как показывает судебная практика, по судебно-контрольным делам суду обязательно предоставляются материалы уголовного дела, подтверждающие законность и обоснованность проверяемого судом действия или решения. Эти материалы, как правило, представляют собой копии уголовно-процессуальных документов: протоколов следственных и иных процессуальных действий, процессуальных решений и иных собранных органами расследования документов. Различные документы, имеющие юридическое значение для принятия решения по судебно-контрольному делу, могут быть также представлены сторонами или запрошены судом непосредственно в ходе судебного разбирательства. Таким образом, из всего присутствующего в уголовном процессе арсенала доказательств в судебно-контрольных производствах обычно используются такие их виды, как протоколы следственных действий и документы.
В судебно-исполнительных и судебнореабилитационных производствах суд не использует доказательства, полученные при производстве по уголовному делу, так как эти виды судебных дел не направлены на выяснение или проверку обстоятельств, установленных в основном производстве и положенных судом в основу приговора или иного судебного решения. Из материалов уголовного дела для целей исполнительных и реабилитационных судебных производств в качестве документов в качестве доказательств обычно требуются только вступившие в законную силу приговоры или иные итоговые решения суда первой инстанции, а также решения вышестоящих судебных инстанций (при их наличии) по результатам проверки этих решений.
Для установления обстоятельств, служащих основанием для принятия решений по вопросам исполнения судебных решений (ст. 397– 398, 400 и др. УПК РФ), судом используются в основном документы, представленные сторонами и предварительно полученные ими непроцессуальным путем. В отличие от основного производства (по уголовному делу) и судебно-контрольных производств здесь отсутствуют доказательства, собранные и сформированные до обращения в суд уполномоченным на то лицом, например следователем. Все доказательства в судебно-исполнительных производствах формируются в ходе судебного заседания посредством познавательно-доказательственной деятельности суда и сторон, в результате которой «происходит преобразование сведений (информации), отраженных в представленных суду материалах, в соответствующую процессуальную форму» [4, с. 31].
В ходе контрольных и исполнительных судебных производств суд иногда прибегает к опросу (заслушиванию) в судебном заседании лиц, которым известны интересующие суд обстоятельства. В качестве таких («сведущих») лиц могут быть опрошены подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный, потерпевший, свидетели и даже следователь, дознаватель и другие должностные лица. Объяснения этих лиц, строго говоря, не являются доказательствами, если они получены судом без соблюдения процедуры допроса (ст. 274–280 УПК РФ), но ввиду отсутствия в законе четкой регламентации познавательнодоказательственной деятельности по указанным категориям судебно-уголовных производств суды придают содержащимся в таких объяснениях сведениям доказательственное значение, что подтверждается результатами опроса практических работников – 76 % опрошенных (в том числе 91 % судей) указали об использовании судами объяснений для установления фактических обстоятельств дела при осуществлении «неосновных» (особых) производств.
Действие стандарта «распределение бремени доказывания»
Принцип состязательного построения судебного процесса предопределяет, что бре- мя доказывания фактов, на которых основаны заявленные перед судом требования, возлагается на сторону, обратившуюся в суд с этими требованиями. Аналогичное положение наблюдается в судебном производстве по уголовному делу, в котором обязанность доказывать выдвинутое обвинение возложена на обвинителя. К этому побуждает и действующий в уголовном процессе принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ). Однако от этого (общего по своему действию) стандарта в некоторых видах судебных производств имеются существенные отступления.
Так, при обжаловании процессуальных действий и решений органов уголовного преследования в порядке статей 125 и 125.1 УПК РФ бремя доказывания распределяется иначе. Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в суд с жалобой – доказывает только факт того, что оспариваемый процессуальный акт непосредственно затрагивает его конкретное субъективное право, а законность и обоснованность процессуального действия или решения обязана доказывать противная сторона – орган уголовного преследования, чьи действия подвергнуты судебной проверке.
Данное особенное правило согласуется с более общим порядком судебного рассмотрения жалоб на действия должностных лиц и органов власти, установленным в российском судопроизводстве в обеспечение конституционного права на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ). Согласно ст. 62 КАС РФ, при рассмотрении судом жалоб на решения, действия (бездействие) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, обратившееся за судебной защитой лицо обязано доказать факт или угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов, но освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий или решений. При этом процессуальная обязанность доказать законность оспоренных действий или решений возложена на соответствующие субъекты, чьи действия и решения обжалуются заинтересованным лицом.
Судебное обжалование в порядке ст. 125, 125.1, 463 УПК РФ действий и решений органов предварительного расследования и про- курора по существу представляет собой особый вариант разрешения споров о защите прав и свобод, возникающих из публичных правоотношений, каковыми и являются правоотношения уголовно-процессуальные. Предоставляемые заявителю преимущества и определенное благоприятствование в состязательном доказывании по делам последующего диспозитивного судебного контроля объясняются спецификой предмета проверки и оправданы очевидным фактическим неравенством частного лица и властного субъекта, осуществляющего производство по уголовному делу, и вытекающей из этого необходимостью сглаживания такого неравенства в целях обеспечения справедливого состязания и эффективного восстановления нарушенных прав.
В производстве по жалобе, рассматриваемой в порядке ст. 125 УПК РФ, благоприятствование заявителю со стороны суда выражается также и в менее жестких требованиях к форме и содержанию жалобы. Формально они не установлены и на практике ограничиваются общими правилами составления судебных жалоб(п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1). В сравнении с ходатайствами следователя, дознавателя, прокурора, направляемыми в суд в рамках иных судебно-контрольных производств, и в отсутствии обязанности заявителя сопровождать жалобу подтверждающими ее доводы документами. На практике в соответствии с п. 12 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ необходимые для проверки законности и обоснованности оспоренного процессуального акта документы («отказные» материалы, копии соответствующих процессуальных решений и материалов уголовного дела) суды обычно своим решением (распоряжением) истребуют у соответствующего должностного лица в порядке подготовки к судебному заседанию [14; 16].
В судебно-исполнительных производствах в тех случаях, когда они инициированы исполнительным органом, обязанность доказывать правомерность и обоснованность заявленных требований возлагается (должно возлагаться) на обратившийся в суд государственный орган или учреждение, исполняющее судебное решение. Подтверждение этому находим в разъяснении Верховного Суда РФ, рекомендовавшего судам проверять, приложены ли к поступившему представлению копии соответствующих судебных решений и документы, необходимые для разрешения поставленного вопроса по существу, и указавшего на необходимость возвращать эти материалы для соответствующего оформления, если в них не содержится достаточных данных для рассмотрения представления и их невозможно восполнить в судебном заседании (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21).
Применительно к ситуациям, когда обращение в суд по вопросам, рассматриваемым в порядке судебно-исполнительного производства, исходит от осужденного или лица, которому назначены иные меры уголовно-правового характера, складывается двойственное положение. С одной стороны, заявитель должен обосновать свое ходатайство и как минимум приложить к нему копии соответствующих судебных решений, в противном случае суд не сможет определиться с предметом и пределами предстоящего разбирательства и установить подсудность поступившего заявления, что повлечет возврат заявления для переоформления 1. С другой стороны, в данных производствах нельзя не учитывать то обстоятельство, что и осужденный, и лицо, к которому применены иные меры уголовно-правового характера, особенно те из них, кто содержится в изоляции от общества, имеют ограниченные возможности по собиранию документов и представлению их в качестве доказательств суду. Поэтому определенной льготой для такой категории заявителей служит выработанное судебной практикой положение, согласно которому суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя или адвоката в случае неприложения к заявлению необходимых для рассмотрения дела документов, которые обязаны предоставлять администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, то есть документов, издаваемых и находящихся в распоряжение этих органов и учреждений. Положения того же п. 32 постановления Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 предлагают суду оказывать сторонам судебно-исполнительного дела содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или истребованы ими самостоятельно. Очевидно, что в такой помощи в большей степени нуждаются частные лица, и на практике содействие суда чаще оказывается им. Сказанное не означает освобождение заявителя от обоснования обращенного к суду требования и доказывания (пусть и при содействии суда) обстоятельств, на которые он ссылается.
Наибольшее своеобразие правила распределения бремени доказывания обретают в судебно-реабилитационных производствах, основанных на признании того, что государство несет обязанность по возмещению гражданину и юридическому лицу вреда, причиненного в результате уголовного преследования или иной незаконной процессуальной деятельности государственных органов в полном объеме (ст. 1070 ГК РФ, ч. 1 ст. 133 и ст. 139 УПК РФ). Однако для взыскания вреда требуется предварительно этот «полный объем» установить (а значит, и доказать) в судебном заседании. На практике суды придерживаются верной позиции, согласно которой «требования реабилитированного должны быть удовлетворены в случае, если они подтверждены документально, а доказательства отвечают требованию относимости к конкретному делу» [13].
Заявителем по реабилитационным и компенсационным делам всегда является частное лицо, от которого исходит требование возмещения вреда или иного восстановления в правах. По характеру и содержанию рассматриваемого судом вопроса его разрешение тяготеет к процессуальному порядку, свойственному исковому производству, в котором бремя доказывания обстоятельств, на которых основываются правовые требования и возражения на них, в равной степени возлагаются на истца и ответчика соответственно. По логике искового производства бремя доказывания объема и размера причиненного вреда по указанным делам должно быть возложено на реабилитированного или иное лицо, обратившееся за возмещение имущественного вреда.
В первые годы действия института уголовной реабилитации многие суды следовали этой логике и придерживались позиции: «бремя доказывания факта причинения ма- териального вреда и обоснование его размера лежит на заявителе» [13]. Однако в п. 17 постановления от 29.11.2011 г. № 17 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что уголовно-процессуальный закон для реабилитированных установил упрощенный по сравнению с исковым порядком гражданского судопроизводства режим правовой защиты, освобождающий их от бремени доказывания оснований и размера возмещения имущественного вреда, и суды стали придерживаться этой позиции [9]. При этом, как указал Верховный Суд РФ, в случае недостаточности данных, представленных реабилитированным в обоснование своих требований, суд обязан оказать ему содействие в собирании дополнительных доказательств, необходимых для разрешения заявленных им требований, а при необходимости и принять меры к их собиранию. Такими мерами, исходя из содержания общих полномочий суда по осуществлению правосудия и специфики реабилитационных производств, могут служить производимые по собственной инициативе суда и обращенные к различным органам и организациям запросы необходимых сведений, требования о предоставлении конкретных документов или их копий, вызов и допрос (опрос) в судебном заседании сведущих лиц, в особо сложных и спорных ситуациях – назначение судебной экспертизы.
Заключение
В условиях недостаточной регламентации в УПК РФ познавательно-доказательственной деятельности в особых судебных производствах судами применяются общие процессуальные правила и стандарты доказывания, приспособленные к специфике этих производств.
Предмет доказывания в особых судебных производствах, ввиду многочисленности и многообразия правовых вопросов, разрешаемых каждым из типов этих производств, невозможно прописать законодательно, однако необходимо более четко определить и обосновать на доктринальном уровне и закрепить в практической деятельности посредством судебного толкования.
Особенности реализации иных стандартов доказывания возможно и целесообразно отразить в нормах УПК РФ, регламентирующих особые судебные производства, которым они присущи. Применяемые в практике особых судебных производств средства доказывания необходимо унифицировать и согласовать с системой доказательств, установленной для уголовных дел.
Список литературы Процессуальные стандарты доказывания в особых судебно-уголовных производствах
- Аргунов, В. В. О так называемых стандартах доказывания применительно к отечественному судопроизводству / В. В. Аргунов, М. О. Долова // Вестник гражданского процесса. - 2019. - №2 2. -С. 76-104. - DOI: 10.24031/2226-0781-2019-9-2-76-104
- Бурмагин, С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного правосудия: монография / С. В. Бурмагин. - М.: Юрлитинформ, 2021.- 720 с.
- Грицай, О. В. Исполнение приговора в части имущественных взысканий: процессуальная сущность, основания и порядок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Грицай Ольга Валентиновна. -Самара, 2007. - 24 с.
- Качалов, В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском уголовном процессе: дис. . д-ра юрид. наук / Качалов Виктор Иванович. - М., 2017. - 492 с.
- Кокорев, Л. Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. - 272 с.
- Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017. -1280 с.
- Ларин, А. М. Уголовный процесс России: лекции-очерки / А. М. Ларин, Э. Б. Мельникова, В. М. Савицкий ; под ред. В. М. Савицкого. - М.: Бек, 1997. - 324 с.
- Ложкина, Л. В. Заключение под стражу осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы (вопросы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ложкина Лариса Владимировна. -Ижевск, 2007. - 26 с.
- Обобщение судебной практики применения районными (городскими) судами и мировыми судьями Волгоградской области положений главы 18 УПК РФ, регламентирующей право на реабилитацию (2016 г.) // ГАС «Правосудие». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://oblsud.vol.sudrf.ru/ modules.php?name=docum_sud&id=901 (дата обращения: 15.04.2022). - Загл. с экрана.
- Пупышева, Л. А. Особое производство, предусмотренное гл. 47 УПК РФ: назначение, предмет и процессуальная форма / Л. А. Пупы-шева // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. - 2020. - Т. 2, № 1 (2). -С. 139-147.
- Резяпов, А. А. Производство о наложении денежного взыскания в системе уголовного судопроизводства / А. А. Резяпов, А. М. Каминский // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. - 2015. - Т. 25, № 5. - С. 139-141.
- Солодилов, А. В. Судебный контроль в системе уголовного процесса России / А. В. Солоди-лов. - Томск: Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2000. - 297 с.
- Справка Ивановского областного суда по итогам обобщения судебной практики по делам о реабилитации (гл. 18 УПК РФ), 2011 г. // ГАС «Правосудие». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://oblsud.iwn.sudrf.ru/modules. php?name=docum_sud&id=48 (дата обращения: 15.04.2022). - Загл. с экрана.
- Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению районными (городскими) судами Архангельской области в 2018 году жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ // ГАС «Правосудие». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://oblsud.arh.sudrf.ru/modules.php?name= docum_sud&id=134 (дата обращения: 10.04.2022). -Загл. с экрана.
- Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т. 1. / М. С. Строгович. - М.: Наука, 1968. - 470 с.
- Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практ. пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под общ. ред. А. И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 2008. - 732 с.
- Татьянина, Л. Г. Судебное санкционирование как особое производство / Л. Г. Татьянина, Э. А. Адильшаев // Вестник Удмуртского университета. Экономика и Право. - 2011. - Вып. 4. -С. 147-152.
- Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2008. - 240 с.