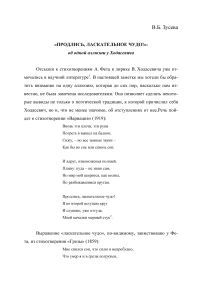«Продлись, ласкательное чудо!»: об одной аллюзии у Ходасевича
Автор: Зусева Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. История литературы
Статья в выпуске: 1 (4), 2007 года.
Бесплатный доступ
Владислав ходасевич, афанасий фет, ласкательное чудо, лирический сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14914029
IDR: 14914029
Текст статьи «Продлись, ласкательное чудо!»: об одной аллюзии у Ходасевича
Отсылки к стихотворениям А. Фета в лирике В. Ходасевича уже отмечались в научной литературе1. В настоящей заметке мы хотели бы обратить внимание на одну аллюзию, которая до сих пор, насколько нам известно, не была замечена исследователями. Она позволяет сделать некоторые выводы не только о поэтической традиции, к которой причислял себя Ходасевич, но и, что не менее значимо, об отступлениях от нее.Речь пойдет о стихотворении «Вариация» (1919):
Вновь эти плечи, эти руки
Погреть я вышел на балкон.
Сижу, – но все земные звуки –
Как бы во сне или сквозь сон.
И вдруг, изнеможенья полный, Плыву: куда – не знаю сам, Но мир мой ширится, как волны, По разбежавшимся кругам.
Продлись, ласкательное чудо!
Я во второй вступаю круг И слушаю, уже оттуда, Моей качалки мерный стук2.
Выражение «ласкательное чудо», по-видимому, заимствовано у Фета, из стихотворения «Грезы» (1859):
Мне снился сон, что сплю я непробудно,
Что умер я и в грезы погружен,
И на меня ласкательно и чудно Надежды тень навеял этот сон.
Я счастья жду, какого – сам не знаю, Вдруг колокол – и все уяснено;
И, просияв душой, я понимаю, Что счастье в этих звуках. – Вот оно!
И звуки те прозрачнее, и чище, И радостней всех голосов земли;
И чувствую – на дальнее кладбище Меня под них, качая, понесли.
В груди восторг и сдавленная мука, Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть И, на волне ликующего звука Умчася вдаль, во мраке потонуть3.
Хотя наречное словосочетание «ласкательно и чудно» у Ходасевича превращается в «ласкательное чудо», перед нами, несомненно, не простое совпадение (вряд ли может быть случайным употребление очень необычной архаизированной словесной формы «ласкательный», да еще в сочетании со словом «чудо»), а факт заимствования. Более того, Ходасевич здесь повторяет не отдельное выражение, а систему мотивов и образов , настроение и интонацию фетовского стихотворения4.
Прежде всего, необходимо охарактеризовать сюжет, разворачивающийся в «Грезах». Лирический герой видит, так сказать, двойной сон («Мне снился сон, что сплю я непробудно…»), причем актуализируется древняя метафора «сна–смерти» («…Что умер я и в грезы погружен»). Кстати, факт смерти здесь не отменяет возможности напряженной жизни души5. Не менее поразительно, что лирический герой воспринимает свой
«сон» как «надежду», «счастье», «восторг», «ликование», освобождение и т.д., а ожидающий его «мрак» смерти – как соединение с некой высшей силой, – видимо, с Богом (об этом свидетельствует мотив колокольного звона). Сон (смерть) предстает, таким образом, «ласкательной и чудной» надеждой на обретение вечного блаженства и упокоения в Боге.
Еще раз перечислим основные мотивы стихотворения: сон–смерть, грезы, звуки, чудо, отчасти приглушенный мотив дальнего плаванья (« волна ликующего звука», «умчася вдаль, во мраке потонуть »), мотив отрешения от всего земного и счастья, дарованного этим отрешением.
Все это есть и в стихотворении Владислава Ходасевича. Оно с еще бóльшим правом, нежели фетовское, могло бы носить название «Грезы»: лирический герой впадает в некое странное состояние, которое не является ни сном, ни явью (ср. с «двойным сном» в стихотворении Фета), и видит земной мир и самого себя в этом мире отстраненно, как нечто бесконечно чуждое. При этом стихотворение носит название «Вариация». Но «вариация» всегда бывает «на тему», каковой для данного стихотворения, является, очевидно, фетовский прототекст.
«Земные звуки», которым равнодушно и как будто издалека внимает лирический герой Ходасевича, соответствуют «голосам земли» у Фета (лирический герой радостно отрекается от них во имя «прозрачных и чистых» звуков колокола). Подчеркнем: внутреннее освобождение фетовского героя от земного тлена происходит в тот момент, когда он слышит голос Бога, воплощенный в колокольном звоне («Вдруг колокол – и все уяснено»). И стремление «умчаться вдаль» оказывается, как было сказано выше, стремлением человеческой души слиться с Божеством и вечностью. В стихотворении Ходасевича, где лирический герой тоже «плывет» вдаль от земли, религиозное начало приглушено: собственно, непонятно, что переносит героя в иной, высший мир («второй круг»). Таинственная перемена, свершающаяся с лирическим героем, или, иначе говоря, «ласкательное чу- до» остаются немотивированными. И если незнание, неопределенность, испытываемые лирическим героем Фета («Я счастья жду, какого – сам не знаю»), рассеиваются при первых же звуках колокола, то мотив незнания у Ходасевича («Плыву: куда – не знаю сам») до конца остается доминирующим. «Ласкательное чудо» у Фета продолжается в вечность, у Ходасевича остается лишь дарованной на секунду милостью, что подчеркивается стремлением героя «остановить мгновение»: «Продлись, ласкательное чудо!». Герой Фета вполне освобождается от земной тяжести, герой Ходасевича остается прикованным к земле: «Я во второй вступаю круг / И слушаю, уже оттуда, / Моей качалки мерный стук».
Таким образом, заимствуя сюжет стихотворения Фета, его мотивы и образы, Ходасевич иначе расставляет акценты. Как проницательно писал С.Г. Бочаров, главная тема поэзии Ходасевича – «тема порыва и прорыва, героическая по пафосу, но ослабленная, обескрыленная чувством слабости сил и скепсисом, перебивающим и подрывающим в душе поэта ее трансцендентный порыв, который тем не менее существует»6. И в «Вариации» перед читателем возникает образ поэта, «оглушенного» «грубой жизнью», но вечно стремящегося «перешагнуть, перескочить, перелететь» через тесные пределы земного бытия.
-
1 См., напр.: Богомолов Н.А. Рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике В.Ф. Ходасевича // Пушкинские чтения: Сб. ст. Таллинн, 1990. С. 167–181; Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 5–56.
-
2 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 162.
-
3 Фет А.А. Стихотворения. Поэмы. Современники о Фете. М., 1988. С. 237.
-
4 Это не единичный случай цитирования Фета Ходасевичем: см., например, стихотворение «Ласточки», повторяющее образы и мотивы одноименного произведения Фета.
-
5 В русской поэзии есть целая традиция стихотворений с подобным сюжетом, идущая по-видимому, от стихотворения М.Ю. Лермонтова «Сон», где складывается та же ситуация, хотя и противоположным образом оцениваемая. В качестве иной временной точки на оси этой традиции можно указать на стихотворение Н.С. Гумилева «Сонет» («Я, верно, болен: на сердце туман…»), где герой в конце неожиданно «вспоминает»: «Ах, да! Я был убит».
-
6 Бочаров С. Г. Указ. соч. С. 23.
Список литературы «Продлись, ласкательное чудо!»: об одной аллюзии у Ходасевича
- Богомолов Н.А. Рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике В.Ф. Ходасевича//Пушкинские чтения: Сб. ст. Таллинн, 1990. С. 167-181.
- Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича//Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 5-56.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 162.
- Фет А.А. Стихотворения. Поэмы. Современники о Фете. М., 1988. С. 237.
- Бочаров С. Г. Указ. соч. С. 23.