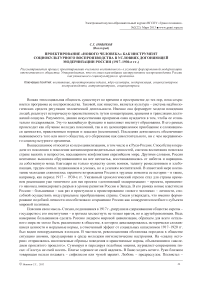Проектирование «нового человека» как инструмент социокультурного воспроизводства в условиях догоняющей модернизации России (1917–1930-е гг.)
Автор: Новиков Сергей Геннадьевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процесс проектирования «человека воспитанного» в условиях форсированной модернизации отечественного общества. Утверждается, что он стал важнейшим инструментом воспроизводства России как уникального социокультурного организма.
Воспитание, проектирование идеала, ядро культуры, модернизация, социокультурное воспроизводство, антропоцентризм, социоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14821886
IDR: 14821886
Текст научной статьи Проектирование «нового человека» как инструмент социокультурного воспроизводства в условиях догоняющей модернизации России (1917–1930-е гг.)
Всякая этносоциальная общность существует во времени и пространстве до тех пор, пока сохраняется программа ее воспроизводства. Таковой, как известно, является культура – система надбиологических средств регуляции человеческой деятельности. Именно она формирует модели поведения людей, реализует историческую преемственность путем концентрации, хранения и трансляции достижений социума. Разумеется, данная искусственная программа сама нуждается в том, чтобы ее сознательно поддерживали. Эту-то важнейшую функцию и выполняет институт образования. В его рамках происходит как обучение молодых поколений, так и их целенаправленное приобщение к сложившимся ценностям, нравственным нормам и идеалам (воспитание). Последняя деятельность обеспечивает выживаемость того или иного общества, его сбережение как самостоятельного, ни с чем несравнимого социокультурного организма.
Вышесказанное относится ко всем цивилизациям, в том числе и к Руси-России. Способствуя передаче из поколения в поколение жизневоспроизводительных ценностей, система воспитания помогала стране выжить в непростом, насыщенном конфликтами евразийском мире. Другими словами, Россия неизменно выносила обрушивавшиеся на нее несчастья, восстанавливалась от набегов и наращивала собственную мощь благодаря не только мужеству своих воинов, таланту ремесленников и хлебопашцев, трудам святых подвижников и ученых, но и усилиям воспитателей. В известной мере воспитание молодежи становилось гарантом возрождения России в трудные моменты ее истории – в такие, например, как период 1917 – 1930-х гг. Указанный хронологический отрезок стал для страны временем реализации уже типичного для нее проекта «догоняющей модернизации» – проекта, призванного наконец ликвидировать разрыв в уровне развития России и Запада. В его рамках новые властители России – большевики – как раз и приступили к проектированию «нового человека» – личности, способной осуществить индустриальное преобразование страны. Смеем утверждать, что именно формирование подобной личности способствовало сохранению России как конкурентоспособного субъекта мировой политики.
Поясним свою мысль. Стихия, поднявшаяся в 1917 г., разрушила сдерживавшие общество скрепы – государство с его институтами – и грозила захлестнуть не только врагов, но и друзей революции. Ведь намерение большевиков сделать Россию лидером мировой цивилизации, образцом для всего остального мира не могло быть реализовано в обществе, в котором девальвировались исторически сложившиеся ценности и моральные нормы, а отмеченный эффект от социальных катаклизмов 1917–1920 гг. был виден невооруженным взглядом. В частности, революционная обстановка породила в обществе ситуацию аномии, продуцировав в среде молодежи нигилистические настроения. На «свалку истории» отправлялись многовековые образцы поведения и нравственные нормы, объявлявшиеся «наследием проклятого прошлого». Суммируя и пародируя подобные мнения, журналист-современник писал: «Галстук не смей носить. Платье хорошее не смей надевать. В баню ходить нечего. Руки близким товарищам нельзя подавать – сифилисом или чумой заразит. Любовь – предрассудок. Посвистел – стал меньшевиком. Плясать и танцевать начал – круглый мещанин» [1, с. 33]. Впрочем, проповедь аскетизма соседствовала в общественном сознании тех лет с защитой стандартов противоположного характера. Иные апологеты «нового быта» постулировали в качестве революционных такие образцы поведения, как неразборчивость в половых связях, неряшливость. В их среде процветали пьянство и хулиганство. К примеру, журнал «Юный коммунист» сообщал о следующих «развлечениях» леворадикальной молодежи Архангельской губернии: «Были случаи, когда в ячейках напивались все комсомольцы, особенно в разного рода праздники как религиозные, так и революционные, на которых комсомольцы имели стычки с милицией» [2, с. 40]. Продолжая живописать быт леворадикальной молодежи, «Юный коммунист» рассказывал: «Во время обследования производственных ячеек в Московской губернии на фабрике им. т. Ногина обнаружено, что рабочая молодежь, в том числе и комсомольцы, “меняют жен и мужей, как перчатки”. На патронном заводе (Тула) в инструментальной ячейке (напомним, это молодежь до 23 лет. – С.Н.) 40% комсомолок делали себе аборты. Были случаи заражения женщин венерическими болезнями со стороны комсомольцев (Вятская губ.)» [4, с. 42]. Неофиты «свободной любви» активно делились собственным опытом с воспитанниками. Журнал рассказывал о случаях совращения комсомольцами малолетних, о вовлечении пионерок в раннюю половую жизнь вожатыми отрядов (Там же, с. 43). Ясно, что для модернизаторов России дезориентация нравственного сознания в первые послереволюционные годы представляла опасность не меньшую, нежели экономическая разруха и голод. Они отдавали себе отчет: с таким «человеческим материалом» – недисциплинированным, необразованным, неопрятным, склонным к пьянству и хулиганству – нельзя превратить страну в оплот «мирового пролетариата», в мощную современную державу. Вот почему большевистские теоретики воспитания приступили сразу по окончании Гражданской войны к работе по педагогическому проектированию. Они попытались сформулировать целую систему элементов, включающую в себя цели воспитания, его содержание, технологии целенаправленной инкультурации. В своих текстах большевистские авторы стремились представить развитие субъекта педагогического взаимодействия, траекторию его движения в социальном и образовательном пространстве.
Принимаясь за проектные построения, они выделили, прежде всего, ведущую ценность «нового мира» – коллективизм. Н.А. Семашко писал: «Не тем отличается человек будущего от человека прошлого, как думают некоторые, что одни будут надевать галстуки, а другие не будут, одни чистят ногти, а другие – нет. <…> Главное, чем будет отличаться человек будущего от человека прошлого, это то что он будет чувствовать себя членом коллектива и будет с радостью работать для этого коллектива» [7, с. 52].
Апологетика коллективизма присутствовала в трудах большевиков всех направлений. В работах Е.А. Преображенского, который был ошельмован в середине 1920-х гг. как троцкист, Н.И. Бухарина, как «правого уклониста» подвергшегося травле в конце 1920-х гг., коллективизм фетишизировался так же, как в публикациях будущих сталинистов. Коллективизм был для большевиков ценностью-целью и ценностью-средством одновременно. В «Азбуке коммунизма», являвшейся популярным изложением программы РКП(б), Бухарин и Преображенский (тогда еще соратники) писали: «Отдельный человек принадлежит не самому себе, а обществу – человеческому роду… Обществу же и принадлежит первейшее и основное право воспитания детей. И с этой точки зрения претензию родителей путем домашнего воспитания запечатлеть в психологии своих детей свою ограниченность необходимо не только отклонять, но и высмеивать самым беспощадным образом… Из сотни матерей, быть может, одна-две способны быть воспитательницами. Будущее принадлежит общественному воспитанию» [1, с. 197]. Не менее безапелляционно заявлял о том же ректор Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова М.Н. Лядов: «Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ: нет, коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан только в общественной среде. В этом отношении лучшие родители губят своих детей, если воспитывают их дома. <…> На ребенка в семье смотрят как на центр, вокруг которого сосредоточиваются все интересы, заботы и внимание всей семьи. Он видит нежность, которой его окружают, и это его гу- бит (?! – С.Н.)» [6, с. 311]. Автор доклада пояснял, что физически и морально здоровому новорожденному человеку семейное воспитание прививает «наши наследственные болезни, наши наследственные черты характера». Лядов сетовал: «Мы требуем дипломов, экзаменов от преподавателей, а не требуем их от тех, кто берется воспитывать ребенка в первые, самые ответственные для будущего человека месяцы и годы жизни» (Там же, с. 313). Резонно отмечая, что нужна «большая подготовка, чтобы уметь разобраться в детской психологии, понять душу его и как следует в нем предупредить развитие предрасположений, передаваемых нами по наследству», скептически оценивая педагогические возможности родителей, Лядов курсивом выделял следующие слова: «Ты родил ребенка, но он не твоя собственность, он родился как член общества, и все общество заинтересовано в том, чтобы он рос здоровым, нормальным ребенком, чтобы он меньше всего унаследовал твои мещанские качества, твои социальные болезни» (Там же, с. 313–314). В связи с этим ректор комуниверситета призывал матерей «вместе с переподготовленным педагогическим персоналом» непосредственно взяться за коллективную работу, направленную на воспитание у ребенка понимания необходимости подчинения «своего “я” общей воле» (Там же, с. 314–315).
Партийный лидер убеждал, что закат индивидуализма обозначен самим процессом индустриальной модернизации. В его заявлении не было чего-то нового. Подобные утверждения в постреволюционные годы можно было услышать от многих теоретиков. Так, директор Центрального института труда А.К. Гастев, опираясь на законы функционирования крупного машинного производства, предсказывал «невозможность индивидуального мышления» в обществе будущего. Он предрекал грядущее превращение человечества в «невиданный социальный автомат <…> не знающий ничего интимного и лирического» [3]. Указанные прогнозы строились на реалиях наступившей индустриальной эпохи, но на таких ее реалиях, которые были издержками индустриализма. Лядов, Гастев и их единомышленники верно заметили, что массовое конвейерное производство, обеспечившее невиданный ранее подъем производительности труда, обезличило до предела и без того «овеществленные» рыночной экономикой человеческие взаимоотношения. Но эта точная констатация «настоящего» западного капиталистического общества опрокидывалась в будущее, объявлялась перечисленными теоретиками правилом для «завтрашней» жизни нашей страны и всего мира.
Отрицание индивидуальности, признание коллективных форм жизнедеятельности единственным средством формирования гармоничного человека подавались рядом большевистских теоретиков воспитания как аксиомы марксизма. Выскажем убеждение, что этим они вводили своих читателей и слушателей в заблуждение. Тот же М. Н. Лядов шел вразрез с марксистским учением, когда предвещал, ссылаясь на тенденции современного ему индустриального капитализма, исчезновение в будущем индивидуального творчества [6, с. 306–307]. Коллективизм же, по Преображенскому или Лядову, состоял в «механической солидарности» (выражение Э. Дюркгейма), превращающей человека в обыкновенный «винтик» (позднейшее выражение И.В. Сталина). В рамках такого понимания коллективизма и появлялись ставшие постоянными и ритуальными призывы лидеров всех уровней растворить личные интересы в коллективных.
Конечно, не все авторитетные фигуры большевизма столь прямолинейно решали вопрос о соотношении личного и общественного. А.А. Сольц, в частности, считал, что успеха в деятельности по созиданию нового общества можно добиться только тогда, когда «общественное принимаешь как личное, а в личном не упускаешь элементов общественных» [8]. Обходилась в 1920-е гг. без глагола раствориться при обращении к передовой молодежи и Н.К. Крупская. Вдова Ленина, положительно оценивая «общественные инстинкты» (коллективный труд, общие переживания, общую борьбу за человеческие условия существования), определяла их сущность через интересы все-таки индивида, а не абстрактного коллектива. Она рассматривала коллективизм как средство достижения того, «чтобы всем людям жилось хорошо, чтобы все люди были счастливы» [6, с. 247]. Да, для Крупской идеалом представлялся человек, который «свои личные интересы всегда отодвигает на задний план, подчиняет их общим интересам» (Там же, с. 251), но, развивая мысль, она поясняла: «Это, конечно, не значит, что мы должны отказаться от личной жизни. <…> Надо уметь сливать свою жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напротив, благодаря такому слиянию <…> личная жизнь обогащается» [6, с. 255]. Казалось бы, разница в лексике старой большевички и ее товарищей по партии была минимальной. Однако в этих нюансах, с нашей точки зрения, скрывалось принципиальное различие: «коллективизм» Крупской оставлял возможность для совмещения его с «индивидуализмом», а «коллективизм» Лядова, Преображенского, Сталина – нет.
Еще более последовательно выражал мысль о двухсоставном характере культурной парадигмы будущего гуманистического общества («коллективизм» и «индивидуализм») нарком просвещения А.В. Луначарский. Призывая в союзники Ленина, он доказывал, что правильно понятый коллективизм не отрицает творческую, неповторимую индивидуальность. Однако размышления Луначарского звучали диссонансом, выпадая из общего хора голосов теоретиков и пропагандистов, далеко ушедших от аутентичного марксизма. У большинства из них осуществление коллективизма превратилось из средства формирования всесторонне развитой личности в самоцель.
Лидеры большевизма, обозначив вектор движения «нового человека» – от индивидуализма к коллективизму – не остановились на этом. Они выделили в ряду идей, задающих эталоны должного и одобряемого поведения, такие ценности, как самоотверженность, революция, труд . Именно на их базе следовало, с точки зрения высокопоставленных авторов, формировать у «нового человека» образ социального космоса, отношение к событиям, происходящим в жизни планеты. Важно подчеркнуть, что присвоение понималось стратегами воспитания не как простая передача подрастающим поколениям знаний о ценностях, но как их освоение в процессе активной совместной деятельности . Руководители государственной политики воспитания резонно считали, что ценности по-настоящему становятся содержанием личностной культуры лишь тогда, когда они приобретаются молодыми людьми как продукт собственного социального опыта.
В целом же в результате дискуссий 1920-х гг. была спроектирована модель личности, сочетающей в себе как традиционные ценности социоцентризма, так и модернистские ценности антропоцентризма. Иными словами, эта личность должна была исходить из приоритетности интересов социума, но при этом обладать таким качествами, как открытость инновациям, инициативе, диалогу. Причудливый симбиоз социоцентризма и антропоцентризма (при превалировании первого) был призван гарантировать концентрацию усилий наших соотечественников на стержневых проблемах социально-экономического развития и одновременно не позволять им громко заявлять о личных («эгоистических») интересах.
Думаем, никто не сомневается в том, что социальный эффект, планировавшийся проектировщиками «нового человека», представляет сегодня не только научный, но и практический интерес. Ведь на рубеже XX–XXI вв. Россия вновь прилагает усилия для того, чтобы «догнать и перегнать» лидирующий Запад. Разумеется, в условиях постиндустриальной модернизации необходимо не слепое копирование опыта восьмидесятилетней давности, но вычленение его актуального сегмента. А таковым, с нашей точки зрения, является сам подход, проявленный руководителями института образования 1917– 1930-х гг., к определению роли и назначения воспитания. Авторы мегапроекта сознательно превратили целенаправленную инкультурацию молодежи в важнейший инструмент стратегической модернизации России – такой ее реконструкции, которая предполагала не косметический ремонт, а коренную перестройку общественного здания. Важно отметить, что при этом и сам социальный проект в целом, и его важнейшее звено – воспитание – строились на синтезе заимствованных и автохтонных культурных элементов (см. подробнее: [5, гл. 3]). Иначе говоря, воспитание было нацелено не на разрушение, а на укрепление культурного ядра российской цивилизации – базовых ценностей и нравственных норм, сложившихся исторически и разделявшихся всеми членами общества. Отличительной чертой указанного ядра стала дуалистичность – сочетание общинных (коммуналистских) и индивидуалистических начал. Проектировщики «нового человека» 1917–1930-х гг., судя по всему, поняли, что именно в дуализме – сила отечественного социоисторического организма, секрет его удивительной живучести. Они пришли к заключению, что культурную наследственность нельзя преодолеть, что ее нужно и должно использовать в интересах форсированной модернизации страны. Если мы сегодня согласимся с данным выводом (а думается, что с ним следует согласиться), то тогда мы обязаны признать справедливым еще один тезис: в нынешних условиях завершения позднеиндустриальной модернизации и перехода к постиндустриализации России надлежит вернуться к идее синтеза двух культурных парадигм – социоцентризма и антропоцентризма. Вернуться, чтобы в новых условиях сформировать поколение молодежи, способное, подобно Алексею Стаханову и Александру Матросову, Юрию Гагарину и Сергею Королеву, дать миру образцы великой самоотверженности и страстного желания самореализоваться. Правда, на пороге III тысячелетия иным, с нашей точки зрения, должно быть ранжирование ценностей проектируемого субъекта модернизации. Приоритетными в ценностном наборе юного россиянина следует сделать не социоцентристские, а антропоцентристские фундаментальные мотивы жизнедеятельности. В этом случае было бы гарантировано такое свободное развитие личности, при котором ее свобода не вступала бы в противоречие со свободой других индивидов. В свою очередь, активность и инициативность личности ограничивалась бы не велениями общества, как это было в 1917–1930-е гг., а осознанием ею интересов собственного нравственного и физического здоровья.
Анализ опыта проектирования «нового человека» периода форсированной модернизации России-СССР побуждает нас обратить внимание еще на ряд моментов. Во-первых, в нравственном идеале проектировавшейся личности не было механического соединения социоцентризма с антропоцентризмом. Его авторы сумели адаптировать к традиционному сознанию россиян представления, нравственные ценности и нормы, возникшие в западноевропейской культуре «модернити». Другими словами, они совместили модернизацию и традицию, инновацию и верность прошлому. Тем самым удалось при реконструкции общества не оторваться от культурной почвы, сохранить цивилизационную идентичность. Во-вторых, проектировщики 1917–1930-х гг., имея одной из своих задач обеспечение безопасности страны путем формирования человека-борца, нацеливали подрастающие поколения не на ценности благополучия, а на идею служения . Разработчики модели «нового человека» осознали: нельзя аккумулировать энергию подростков и юношества в направлении модернизации России, если ориентировать их на потребительское поле. Рискнем утверждать, что и в начале XXI в. выдвижение идеала «человека жующего» никогда не позволит нам возродить в былом объеме ни «большой науки», ни геополитической мощи.
Все вышесказанное не означает, что мы склонны идеализировать советское прошлое вообще и советский воспитательный проект 1917–1930-х гг. в частности. Нам хорошо известны все негативные стороны последнего: склонность педагогов к авторитаризму в методах формирования личности, к догматизму и начетничеству в рецептуре лечения «болезней» молодежи и т.д. Помним, разумеется, и о господстве в педагогической теории моноконцептуального мышления, о нетерпимости к инакомыслию, о боязни «чуждых» идеологических влияний. Не выглядит для нас привлекательной и целевая установка проектировщиков «нового человека» 1917–1930-х гг. – формировать личность, склонную к самоотречению от свободы во имя надперсональных интересов и готовую по первой команде власти броситься в борьбу за их претворение. Однако все это, с нашей точки зрения, не дает оснований отрицать очевидный факт: воспитательная деятельность времен форсированной модернизации СССР, осуществлявшаяся по реализации указанного проекта, была эффективной . Ее «продуктом» стало поколение, воздвигнувшее индустриальные гиганты первых пятилеток и разгромившее коварного и чрезвычайно сильного врага – нацистскую Германию.
Резюмируя, констатируем следующее. Материализация проекта воспитания «нового человека» обеспечила решение задачи включения молодежи в исторически сложившуюся культурную систему. Тем самым данная деятельность способствовала сохранению и развитию России-СССР в непростых условиях глобального противоборства великих держав. Более того, она обеспечила воспроизводство нашей страны как уникального социокультурного организма в условиях активного имплантирования инокультурных элементов. Все это побуждает нас призвать педагогическую общественность внима- тельнее вглядеться в прошлое, дабы не впадать в грех упрощенчества. Изучение всего комплекса источников позволяет утверждать, что период предвоенной догоняющей модернизации отнюдь не является «черной дырой» в истории российского образования. Это был важный период его развития, в котором неразрывно соединилось героическое и постыдное, возвышенное и низкое, достойное продолжения и достойное осуждения.
Список литературы Проектирование «нового человека» как инструмент социокультурного воспроизводства в условиях догоняющей модернизации России (1917–1930-е гг.)
- Бухарин Н.И., Преображенский Е.А. Азбука коммунизма. М., 1920
- Быт и молодежь. М., 1926.
- Гастев А.О тенденциях пролетарской культуры//Пролетарская культура. 1919. №9-10.
- Москатов К.О бытовых болезненных явлениях в комсомоле//Юный коммунист. 1926. №19.
- Новиков С.Г. Воспитание рабочей молодежи в условиях форсированной модернизации России (1917-1930-е годы): моногр. Волгоград, 2005.
- Партийная этика: (Документы и материалы дискуссии 20-х годов)/под ред. А.А. Гусейнова [и др.]. М., 1989.
- Семашко Н.А. О новом человеке//Юный коммунист. 1930. №19.
- Сольц А.А. Семья в строительстве новой жизни//Смена. 1929. 18 янв.