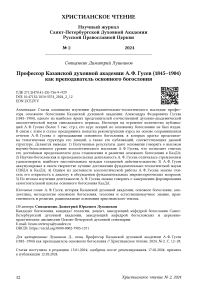Профессор Казанской духовной академии А. Ф. Гусев (1845-1904) как преподаватель основного богословия
Автор: Лушников Д.Ю.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Академическое богословие
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению фундаментально-теологического наследия профессора основного богословия Казанской духовной академии Александра Федоровича Гусева (1845-1904), одного из наиболее ярких представителей отечественной духовно-академической апологетической науки синодального периода. Несмотря на огромное количество публикаций А. Ф. Гусева (более 5 тыс. стр.), его курс лекций по основному богословию не был издан. В связи с этим в статье предпринята попытка реконструкции курса на основе сохранившихся отчетов А. Ф. Гусева о преподавании основного богословия, в которых кратко представлена тематическая структура его лекций, а также его публикаций, соответствующих данной структуре. Делаются выводы: 1) Полученные результаты дают основания говорить о высоком научно-богословском уровне апологетического наследия А. Ф. Гусева, что позволяет считать его достойным продолжателем дела становления и развития основного богословия в КазДА; 2) Научно-богословская и преподавательская деятельность А. Ф. Гусева отличалась стремлением удовлетворить наиболее настоятельным нуждам тогдашней действительности; 3) А. Ф. Гусев аккумулировал в своем творчестве лучшие достижения фундаментально-теологической науки СПбДА и КазДА; 4) Одним из достоинств апологетической работы А. Ф. Гусева можно считать его открытость к диалогу в обсуждении фундаментальных мировоззренческих вопросов; 5) По итогам изучения деятельности А. Ф. Гусева можно говорить о завершении формирования самостоятельной школы основного богословия КазДА.
А. ф. гусев, история казанской духовной академии, основное богословие, апологетика, методология основного богословия, теология и естественнонаучное знание, нравственность и религия, рациональные основания христианского теизма
Короткий адрес: https://sciup.org/140306821
IDR: 140306821 | УДК: 271.2(470.41-25)-756-9+929 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_2_12
Текст научной статьи Профессор Казанской духовной академии А. Ф. Гусев (1845-1904) как преподаватель основного богословия
Преподавательская и научно-богословская деятельность
-
А. Ф. Гусева
С именем проф. Александра Федоровича Гусева (1845–1904), заместившего прот. Александра Владимирского (1821-1906) на кафедре основного богословия Казанской духовной академии, по праву может быть связана одна из самых замечательных страниц истории преподавания этого богословского предмета в духовной школе.
Ученик одного из корифеев отечественного основного богословия проф. Н. П. Рождественского (1840-1882) (см.: [Апологетические труды, 1889, 115]), А. Ф. Гусев известен не только как многолетний преподаватель данной богословской дисциплины в КазДА, но и как видный ученый, оригинальный русский апологет, стяжавший славу строго логического мыслителя (см.: [Буткевич, 1899, 445, 453]). Став «одним из передовых борцов русской богословской науки за цельность и единство христианства» [Колобов, 1904, 15], А. Ф. Гусев оказал заметное влияние на развитие основного богословия как научного направления русской духовно-академической мысли синодального периода.
Родился будущий профессор 23 июля 1845 г., в Тверской губернии, в семье причетника. Среднее образование получил в Тверской духовной семинарии, а высшее — в СПбДА, которую окончил в 1871г. со степенью кандидата богословия. После окончания Академии А. Ф. Гусев был назначен преподавателем основного, догматического и нравственного богословия в Казанскую духовную семинарию. 1 октября 1874 г. в Совете СПбДА он успешно защитил магистерскую диссертацию (см.: [Журналы Совета СПбДА, 1874, 203]) «Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству» [Гусев, 1874б].
На заседании Совета КазДА 1 сентября 1886 г. ее ректор прот. Александр Владимирский выразил желание оставить занимаемую им кафедру Введения в круг богословских наук, с удержанием преподавания только одного отдела указанной науки. В соответствии с этим 31 октября того же года Совет академии остановился на двух кандидатах по замещению означенной кафедры: преподавателе Казанской духовной семинарии А. Ф. Гусеве и преподавателе Воронежской духовной семинарии А. Потехине. В конечном итоге указом Св. Синода от 9 февраля 1887 г. доцентом по кафедре Введения в круг богословских наук был утвержден А. Ф. Гусев (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1887, 6])1. По словам проф. К. Г. Григорьева, ученика и преемника Александра Федоровича по кафедре, Гусев наконец-то «получил то, что давно заслуживал» [Григорьев, 1905, ч. 3, 89]2. Доцент А. Ф. Гусев немедленно приступил к чтению лекций, и всего во 2-м семестре 1886–1887 уч. г. по предмету им было прочитано семь лекций вводного раздела науки «о том, что такое богословие вообще, на какие особые группы распадается оно и какая сторона христианской религии обнимается каждой из них» [Отчет о состоянии КазДА, 1887, 29].
Спустя два года, в 1889 г., вновь по представлению ректора КазДА и ходатайству ее Совета (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1889, 19]), А. Ф. Гусев был утвержден в звании экстраординарного профессора. 24 апреля 1895 г. ему была присуждена степень доктора богословия за сочинение «Основные религиозные начала графа Л. Н. Толстого» (Казань, 1893), которое в переработанном и значительно дополненном виде было издано в 1902 г. [Гусев, 1902].
-
16 марта 1896 г. А. Ф. Гусев постановлением Совета академии избран и указом Св. Синода от 19 марта того же года утвержден ординарным профессором (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1896, 8]). В конце 1901–1902 уч. г. А. Ф. Гусев в силу резкого ухудшения здоровья подал прошение об отставке, которое было удовлетворено указом Св. Синода от 26 июля 1902 г. (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1902, 9]). При этом, по общему желанию членов Совета академии, он согласился продолжить чтение лекций, осуществляя при этом руководство своим преемником по кафедре, профессорским стипендиатом Константином Григорьевым (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1902, 9]).
В следующем 1902–1903 уч. г., который стал последним в преподавательской карьере А. Ф. Гусева, он продолжал чтение лекций. Для студентов I курса им были изложены наиболее существенные отделы методологии и энциклопедии богословских наук, а для II курса — основные истины религии в апологетическом изложении и трактаты о Божественном происхождении ветхозаветной и христианской религий (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1903, 27]).
Скончался А. Ф. Гусев 8 июля 1904 г.3 Таким образом, преподавание им основного богословия в КазДА продлилось 17 лет, а с учетом трудов в Казанской духовной семинарии он посвятил данной дисциплине более 30 лет своей жизни.
-
А. Ф. Гусев, будучи «ревностным и искусным полемистом против лжеверия и плодовитейшим писателем» (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1904, 12]), оставил после себя богатое научно-богословское наследие. В составленном В. В. Колокольцевым некрологе, подводящем итог более чем 30-летней литературной деятельности А. Ф. Гусева, приведен перечень его публикаций, содержащий, кроме уже указанных двух диссертаций, еще 53 пункта [Колокольцев, 1904, 27–30].
Труды казанского профессора, опубликованные как в виде журнальных статей, так и отдельными изданиями, могут быть разделены на несколько основных рубрик: 1) посвященные нравственной проблематике; 2) касающиеся основного богословия; 3) направленные на критику антихристианских воззрений Л. Н. Толстого; 4) догматического содержания4 и 5) связанные с полемикой по вопросу о Filioque и Евхаристии со старокатоликами.
Для настоящего исследования непосредственный интерес представляют труды А. Ф. Гусева, посвященные фундаментально-теологическим исследованиям, при этом особое внимание нами будет уделено тем из них, которые соответствуют тематике читавшегося им академического курса лекций по основному богословию5.
Однако, прежде чем перейти к библиографическому описанию и анализу их содержания, необходимо сделать некоторое замечание, касающееся общей оценки богословия А. Ф. Гусева, точнее, определения преимущественной принадлежности исследований последнего к той или иной богословской специальности.
Дело в том, что в опубликованной в «Православной энциклопедии» статье А. В. Журавского, посвященной А. Ф. Гусеву, профессор представлен исключительно как «специалист по нравственному богословию и этике как философской дисциплине» [Журавский, 2006, 499]. На наш взгляд, подобная оценка А. Ф. Гусева является ошибочной. Одной из причин, из-за которой сформировалась данная точка зрения, вероятно, стали магистерская диссертация и некоторые журнальные статьи казанского профессора, посвященные нравственной проблематике.
Действительно, будучи преподавателем не только основного и догматического, но и нравственного богословия в Казанской духовной семинарии, А. Ф. Гусев некоторое число своих публикаций посвятил вопросам, относящимся к данной теологической дисциплине. Однако следует учитывать, что основное и нравственное богословия имеют между собой очень важное тематическое пересечение, касающееся выявления объективных (религиозных) оснований нравственности и критики автономистских этических теорий. В основном богословии традиционно данная проблематика представлена в разделе «О религии», в отделе, посвященном отношению религии к другим сторонам духовной жизни человека — науке, нравственности и эстетике (см.: [Рождественский, 1884, т. 1, 145–171; Лушников, 2021б, 253–325]). В силу этого сам А. Ф. Гусев, согласно представленному им отчету о преподавательской деятельности за 1888-1889 уч. г., вопросы «о взаимоотношении между верой и знанием, о неразрывной связи между религиозной и моральной областями, об отношении религии к эстетическим потребностям человека» [Отчет о состоянии КазДА, 1889, 43] помещал в предметную структуру своего академического курса основного богословия.
Поэтому далеко не все статьи А. Ф. Гусева, содержащие в своем названии слово «нравственность», должны быть отнесены (как это делает автор статьи в «Православной энциклопедии») к нравственному богословию. Напротив, многие из них вполне справедливо должны рассматриваться как имеющие прямое отношение к области фундаментально-теологических исследований6.
Кроме этого, не выдерживает никакой критики и указание А. В. Журавского на статью А. Ф. Гусева «Единобожие ветхозаветной религии как доказательство божественного ее происхождения» [Гусев, 1895] как относящуюся к области христианской этики, рассматриваемой «применительно к библейским сюжетам» [Журавский, 2006, 499]. Данная статья напрямую связана с разработкой второго отдела основного богословия — «Об Откровении», одной из главных задач которого является обоснование истинности христианской религии, или ее Богооткровенного характера.
Что касается вышеупомянутой магистерской диссертации А. Ф. Гусева, то она действительно расценивалась некоторыми его современниками как сочинение, относящееся прежде всего к нравственному богословию (см. подр.: [Гренков, 1875]). Так, А.А. Бронзов (1858-1919 или 1937) в своем монументальном исследовании «Нравственное богословие в России в течение XIX столетия» [Бронзов, 1901] среди сочинений, особенно содействовавших росту нравственного богословия в России, выделяет и указанный труд А. Ф. Гусева. Однако при этом главное достоинство данного сочинения А. А. Бронзов видит в том, что его автор «наглядно показывает и доказывает неосновательность утверждений некоторых ученых о существующей будто бы зависимости христианского учения о нравственности от буддийской морали» [Бронзов, 1901, № 11, 735]. Другими словами, А.А. Бронзов расценивает диссертацию как направленную прежде всего на обоснование превосходства христианской религии как единственно истинной. В таком случае проведенный в ней сравнительный анализ христианства и буддизма, пусть и в узком тематическом ограничении его нравственной проблематикой, вполне допустимо рассматривать как относящийся к разработке второго раздела основного богословия, что соответствовало уже утвердившейся в отечественной фундаментальной теологии того времени традиции7.
Поэтому отнюдь не случайно диссертация А. Ф. Гусева рассматривалась его современниками и как относящаяся к проблематике основного богословия. Так, профессор по кафедре основного богословия КазДА К. Г. Григорьев, подчеркивая апологетический характер данного исследования, указывает на то, что А. Ф. Гусев «для понимания истинного смысла, характера и ценности буддийского и христианского учений о нравственности» [Григорьев, 1905, ч. 2, 560] прежде всего акцентирует внимание на рассмотрении их связи с теоретическими или религиозными верованиями буддистов и христиан (см.: [Григорьев, 1905, ч. 2, 561]), т.е. для достижения целей нравственного богословия проводит фундаментально-теологический анализ.
В связи с этим становится понятным, почему профессор Харьковского университета прот. Тимофей Буткевич (1854–1925), один из самых авторитетных русских апологетов синодального периода, в своем специальном исследовании, посвященном истории христианской апологетики, расценивает данное сочинение А. Ф. Гусева как имеющее важное значение для русской апологетической литературы (см.: [Буткевич, 1899, 453]).
Автор статьи «Апологетические труды проф. А. Ф. Гусева» также характеризует данный труд как направленный на обоснование Богооткровенного характера христианской веры и ее абсолютной истинности (см.: [Апологетические труды, 1889, 115]).
Косвенным подтверждением междисциплинарного характера магистерской диссертации А. Ф. Гусева может служить то, что вторым оппонентом на ее защите был назначен профессор основного богословия СПбДА Н. П. Рождественский, включивший во второй раздел преподаваемой им науки «Учение о религии Богооткровенной, Христианской» тематику «критико-сравнительного обзора естественных религий» (см.: [Рождественский, 1884, т. 2, 5–104]).
Наконец, наиболее существенным аргументом — своего рода ultima ratio — в пользу того, чтобы рассматривать А. Ф. Гусева прежде всего как специалиста по основному богословию, нам представляется сам факт его 17-летнего пребывания на соответствующей кафедре КазДА.
Основное богословие профессора А. Ф. Гусева
Несмотря на проведенную проф. А. Ф. Гусевым в течение его многолетней духовноакадемической преподавательской деятельности масштабную фундаментальнотеологическую работу, его курс лекций по основному богословию так и не был издан. Однако сохранившиеся отчеты А. Ф. Гусева о преподавании основного богословия, в которых пусть и кратко, но все же представлена тематическая структура его лекций, а также его публикации, соответствующие данной структуре, позволяют провести частичную реконструкцию содержания преподававшейся им теологической дисциплины.
Тематическая структура лекций
В течение 17-летнего пребывания А. Ф. Гусева на кафедре предметная структура его лекций претерпевала ряд изменений. В период с 1887–1888 по 1894–1895 уч. гг. Александр Федорович читал лекции для студентов I и II курсов Академии, при этом для II курса — совместно с ректором прот. Александром Владимирским.
Согласно Отчету о состоянии КазДА за 1887-1888 уч. г., А. Ф. Гусевым сначала сообщались предварительные понятия о богословии вообще, о его отдельных отраслях и о более правильной их группировке, о совместимости строго научных и православно-вероисповедных требований в богословских исследованиях, а также об общем взаимоотношении между богословием и религией. Затем раскрывались понятия о сущности религии с ее объективной и субъективной сторон, решались вопросы о взаимоотношении между верой и знанием, о неразрывной связи между религиозными и нравственными областями, об отношении религии к эстетическим потребностям человека. Заканчивал чтение своей части курса лекций А. Ф. Гусев ре-лигиологической проблематикой — разбором редукционистских теорий о происхождении религии (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1888, 33]).
В 1890–1891 уч. г. отдел о происхождении религии был заменен на «критический анализ неправильных мнений по вопросу о бытии Божием, о личности Божества, о промысле, о сверхъестественном Божественном откровении и бессмертии души человеческой» [Отчет о состоянии КазДА, 1891, 24]. По отчету за 1892–1893 уч. год, А. Ф. Гусев вновь возвращается к прежней предметной структуре, восстанавливая в ней отдел о происхождении религии, добавляя, кроме этого, к тематике взаимоотношения веры и положительной науки также вопрос взаимоотношения религии и философии (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1893, 20]).
В следующем 1893–1894 уч. г. А. Ф. Гусев вновь изменяет структуру лекций для II курса, сосредотачиваясь на выполнении задачи научно-философского оправдания основных и всеобщих религиозных верований, а также обоснования истинности и самобытности христианского веро- и нравоучения (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1894, 23]).
После окончания в 1895 г. преподавания основного богословия прот. Александром Владимирским, когда проф. А. Ф. Гусев становится единственным преподавателем данной дисциплины, структура его лекций закрепляется окончательно и сохраняется неизменной вплоть до 1902 г. Для студентов I курса он преподает наиболее существенные отделы из энциклопедии и методологии богословских наук, из первого раздела «О религии» — отдел о сущности и происхождении религии, с опровержением рационалистических воззрений на этот предмет. На II курсе А. Ф. Гусев читает лекции, посвященные обоснованию основных религиозных истин, и трактаты о Божественном происхождении ветхозаветной иудейской и христианской религии (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1896, 22; Отчет о состоянии КазДА, 1898, 24; Отчет о состоянии КазДА, 1900, 27; Отчет о состоянии КазДА, 1901, 28; Отчет о состоянии КазДА, 1902, 26]). Таким образом, отдел об отношении религии к основным сферам практической деятельности человека уступает место отделу о рациональном обосновании основных религиозных истин.
Содержание лекций
Разработка вопросов методологии основного богословия у А. Ф. Гусева нашла отражение в статье «Потребность и возможность научного оправдания христианства», которая является также печатным вариантом его вступительной лекции, прочитанной в КазДА по предмету Введения в круг богословских наук [Гусев, 1887].
По мнению А. Ф. Гусева, главную задачу основного богословия составляет «научное оправдание христианства, как единственно истинной и навсегда человечеству данной богооткровенной религии» [Гусев, 1887, 352]. Выполнение данной задачи предполагает обсуждение двух проблемных вопросов: 1) что делает необходимым существование такой науки, как основное богословие, и 2) возможно ли в принципе научное оправдание христианской религии? (см.: [Гусев, 1887, 352]).
Необходимость особой науки, ставящей своей задачей научно-философское оправдание христианства, А. Ф. Гусевым обосновывается: 1) неискоренимой потребностью нашего разума уяснить себе логические основания веры в то, почему христианская религия должна быть признана единственно истинной; 2) заветом ап. Петра быть готовым всякому требующему у нас отчета в наших верованиях дать надлежащий ответ, что предполагает выработку научно-философских соображений, или объективных ручательств, способных удостоверить вопрошающего в том, что субъективная уверенность христиан в истинности их религии не напрасна и не ошибочна; 3) практическими нуждами современности, состоящими в необходимости защиты как от нападок на христианское миросозерцание со стороны философии, естествознания и т. н. исторической критики, отрицающей Богочеловечество Иисуса Христа, так и от усиливающегося и все более распространяющегося неверия как такового среди образованных слоев Западной Европы и русской интеллигенции с ее духовной неустойчивостью и рабским отношением к тому, что на западе Европы имеет вид новизны; 4) невозможностью для отдельных специально-богословских наук выполнять надлежащим образом, т. е. полноценно, апологетическую задачу рационального оправдания христианства (см.: [Гусев, 1887, 353–368]).
Далее, решая в рамках основного богословия вторую фундаментальную проблему богословской апологетической науки, т. е. вопрос «о возможности придать защите христианства несомненный научно-философский характер» [Гусев, 1887, 368], А. Ф. Гусев рассуждает о «доказательной силе» рациональных аргументов в пользу истинности содержания христианской веры. Так, он отмечает, что «напрасно было бы воображать, будто доказательства, какие может приводить апологетика христианства в подтверждение истинности и спасительности его, способны иметь принудительный характер, т. е. быть очевидными и неотразимо действующими на всякого» [Гусев, 1887, 369], иначе «не встречалось бы не только безверия, но и маловерия» [Гусев, 1887, 369]. При этом для А. Ф. Гусева вне всякого сомнения, что сама по себе аподиктическая достоверность доказательств истинности христианства в сотериологическом контексте недопустима, иначе «вера и неверие утратили бы тот чисто нравственный характер, каковой свойствен им, и не могли бы вменяться человеку первая в своего рода заслугу, а вторая в вину» [Гусев, 1887, 369].
Однако, по мнению А. В. Гусева, несмотря на невозможность очевидных и неотразимо действующих доказательств в христианской апологетике, между последней и философским знанием не возникает непреодолимой пропасти. Основной упрек со стороны философии и науки в отношении рациональности теистических убеждений А. Ф. Гусев видит в том, что «апологетика христианства начинает с веры, руководится верой и оканчивается ею же» [Гусев, 1887, 368], тогда как философия и наука ничего не принимают на веру, а «каждое, допускаемое в них положение есть продукт предварительного дознания и размышления» [Гусев, 1887, 368]. В силу этого с точки зрения философии говорить о научно-философском характере защиты христианства не приходится, а приводимые в апологетическом богословии доказательства, не имея логической принудительности, не являются достоверными (см.: [Гусев, 1887, 368]).
В построении своей контраргументации А. Ф. Гусев прежде всего исходит из факта того, что в науке — особенно в философии — далеко не все положения являются плодом предварительных исследований. Многое в научных дискурсах допускается в качестве предположений, без рациональных оснований и без ожидаемой проверки, т. е. принимается на веру. По его мнению, в области философии, как и в апологетике, никаких принудительных доказательств нет и быть не может, поскольку «принудительный характер имеют только доказательства в сфере математики и точной науки» [Гусев, 1887, 369]8. Примером допущения своего рода элементов догматической веры в области философского знания может быть, по мнению А. Ф. Гусева, не только мистицизм, но даже и материализм, который, «как и мистицизм, выходит из веры и покоится на вере» [Гусев, 1887, 377]. Так, «начиная с Левкиппа и оканчивая Бюхнером, ни один из представителей материализма не давал себе труда доказать коренной тезис материалистической философии — существование материи. Для всех их оно — несомненная истина, свидетельствуемая внешними чувствами^ Материалисты верят в объективность чувственных восприятий, в соответствующий ощущениям внешний субстрат, единственно только ему свойственное бытие, не придя к этому путем предварительного анализа и исследования» [Гусев, 1887, 377].
Другим аргументом, подтверждающим ранее высказанный тезис о том, что далеко не все в области философского знания построено на достаточно обоснованных положениях, для А. Ф. Гусева служит сам факт разнообразия философских воззрений. Так, по его мнению, «не только противоположности, но и разнообразия во взглядах не может быть там, где они вызываются и подтверждаются несомненным знанием и логически принудительными доводами» [Гусев, 1887, 378], и если бы философская мысль всегда выстраивала свое мировоззрение на логически принудительных основаниях, то «тогда была бы возможна и на деле существовала бы только одна определенная философская система» [Гусев, 1887, 378].
Наконец, А. Ф. Гусев отмечает, что поскольку в истории философских учений новизна и оригинальность во многом состоят не в основных и коренных идеях этих учений, а в их научном и логическом обосновании — т.е. в разработке более основательной аргументации для новых форм философских концепций, в их преобразовании и методическом развитии в определенную систему, что предполагает в том числе устранение «фантастических элементов» из философских построений, и соединении однородных философских начал, — вряд ли приходится говорить о «безпредположи-тельности философии» и наличии «логически принудительной аргументации в ее области» [Гусев, 1887, 378–379].
Поэтому, делает вывод А. Ф. Гусев, «предвзятые начала и идеи были и всегда будут неотъемлемой принадлежностью и философского мышления» [Гусев, 1887, 379], и поскольку это не отнимает у философии права именоваться наукой, то, соответственно, и присутствие элементов веры в научно-философском построении христианской апологетики нисколько не мешает последней стоять на научно-философской почве и не лишает эту отрасль богословского знания научно-философского характера (см.: [Гусев, 1887, 379]).
Отметим, что более основательно вопросы методологии основного богословия, точнее, соотношения веры и разума, или Богооткровенного учения и восприятия его человеческим разумом, разработаны А. Ф. Гусевым в специальном исследовании «Христианство в его отношении к философии и науке» [Гусев, 1885]. Согласно современной предметной структуре основного богословия, представленная в данной статье тематика входит в четвертый раздел дисциплины — «Учение о принципах богословского познания», и может стать предметом отдельного исследования.
По замечанию К. Г. Григорьева, А. Ф. Гусев «очень интересовался естествознанием и обладал значительной начитанностью в естественно-научных сочинениях» [Григорьев, 1905, ч. 3, 85]. Более того, будучи убежденным в том, что религия и наука не только не противоречат, но и взаимодополняют друг друга, он настаивал на необходимости введения во всех духовных академиях кафедры естественнонаучной апологетики (см.: [Григорьев, 1905, ч. 3, 85])9.
Отметим, что А. Ф. Гусев в своих лекциях особое внимание уделял проблематике взаимоотношения религии и естественнонаучного знания, долгое время оставляя данную тематику в структуре курса своих лекций10.
Сохранилось несколько публикаций А. Ф. Гусева, посвященных разносторонней разработке данного вопроса. В пространной статье «Фиктивный союз материализма с естествознанием» (103 с.) А. Ф. Гусев убедительно показывает, что: 1) материализм не имеет никакой органической и неразрывной связи с эмпирическими науками как таковыми; 2) основные положения материализма о вечности материи, о материи как сущности всего мирового бытия, о происхождении живого из неживого и психического из физического есть не что иное, как нелепые догматы веры, а не научно (философски) обоснованные факты; 3) логически продуманные факты естествознания и психологической науки не только не ведут к материализму, но, напротив, убеждают в реальности бытия Божественного как разумной причины бытия мира и источника духовной природы человека [Гусев, 1877б].
В статье «Огюст Конт, как автор „Курса положительной философии“ и „Положительной политики“» [Гусев, 1875] А. Ф. Гусев знакомит читателей с антипозитивист-ской аргументацией, разработанной в капитальном труде профессора Варшавского университета Н. Хлебникова «Право и государство в их взаимных отношениях», опубликованном в 1874 г. Причинами, побудившими А. Ф. Гусева к написанию данной статьи, стали: 1) все большее распространение в среде русской интеллигенции позитивистских идей, характеризующихся отрицанием религии и игнорированием существенных вопросов человеческого ума относительно сущности бытия; 2) отсутствие в отечественной публицистике того времени, в том числе в духовной, специальных сочинений, посвященных серьезной научной разработке вопросов, которые тенденциозно решаются позитивизмом11; 3) несмотря на то, что сочинение Н. Хлебникова изначально не предназначалось для апологетических задач, представленный в нем беспристрастный научный анализ сущности учения Конта способствует достижению тех целей, которые должна преследовать преимущественно журналистика духовная (см.: [Гусев, 1875, 690, 692, 696]).
По мнению А. Ф. Гусева, основной тезис сочинения Н. Хлебникова состоит в утверждении того, что позитивизм и другие т. н. реалистические теории, стремящиеся выявить неизменные законы развития человеческого духа и объяснить цивилизацию из начал, несовместимых с христианским мировоззрением, при критическом их рассмотрении оказываются несостоятельными, тогда как христианское учение, напротив, в решении данных вопросов «есть самое основательное в философском и научном смысле, могущее вполне удовлетворить наше сознание, как бы оно серьезно требовательно ни было» [Гусев, 1875, 696-697]. Далее в статье приводятся как исторические, так и философские аргументы в поддержку выдвинутых тезисов [Гусев, 1875, 705–711].
Полемическая статья «Натуралист Уоллэс и его русские переводчики» [Гусев, 1878–1879], вышедшая впоследствии отдельной книгой (Москва, 1879), посвящена защите теистических воззрений известного английского ученого-естествоиспытателя Альфреда Уоллеса (1823-1913). Таковая защита потребовалась после перевода на русский язык книги Уоллеса «Естественный подбор»: многие места этого сочинения, где автор говорит о недостаточности только естественного объяснения происхождения человека и о необходимости признания воздействия на мировые процессы творческой промыслительной силы Божественного разума, были тенденциозно переделаны и урезаны переводчиком, сторонником т. н. дарвинизма профессором Петровской сельскохозяйственной академии К. Э. Линдеманом (1844–1929).
Профессор Санкт-Петербургского университета Н. П. Вагнер (1829–1907), изобличив подлог Линдемана и добросовестно переведя книгу А. Уоллеса, выступил тем не менее противником взглядов английского ученого относительно участия Высшего Разума в деле происхождения человека, присовокупив к переводу свою специальную статью.
Опровержению контраргументации Н. П. Вагнера — а вместе с ней дарвинизма как такового — и был посвящен указанный труд А. Ф. Гусева. Теистические доводы последнего сконцентрированы преимущественно вокруг вопроса происхождения духовных особенностей человеческой природы: разума, нравственного и эстетического чувств, творческого начала и религиозной идеи.
Как отмечает проф. К. Г. Григорьев, «по изяществу речи, по метким и остроумным замечаниям, по тонкости логических оборотов мысли и умелому анализу естественно-научных фактов, книга „Натуралист Уоллэс“ представляет собой одно из самых удачных произведений А. Ф.» [Григорьев, 1905, ч. 3, 83].
Не менее обстоятельно А. Ф. Гусевым исследуется проблематика объективного, или религиозного, обоснования нравственности, также долгое время входившая в предметную структуру его курса основного богословия.
Началом его исследований вопроса взаимоотношения нравственности и религии можно считать пространную статью против утилитаризма Джона Стюарта Милля (1806–1873) [Гусев, 1875–1878], громкое имя которого в отечественной журналистике того времени было окружено ореолом непогрешимости и неуязвимости (см.: [Григорьев, 1905, ч. 2, 574]). По замечанию К. Г. Григорьева, А. Ф. Гусев своим чисто полемическим по характеру трактатом первым из церковных писателей выступил против популярного и широко распространенного в среде русской интеллигенции тех лет этического учения Милля (см.: [Григорьев, 1905, ч. 2, 574]). В статье автором были подробно изложены и сопровождены меткими критическими замечаниями основные положения утилитаристской доктрины английского ученого.
Исследование данной фундаментально-теологической проблематики А. Ф. Гусев продолжил в своем первом противотолстовском сочинении «Зависимость морали от религиозной или философской метафизики» [Гусев, 1886] и близкой к нему по содержанию статье «Религиозность как основа и опора нравственности» [Гусев, 1889].
В более упорядоченном и дополненном виде указанная проблематика была представлена им в солидном трактате «Религиозность как основа нравственности» [Гусев, 1894], в шести главах которого А. Ф. Гусев последовательно опровергает аргументацию представителей автономной морали, выявляя слабые места их пропозиций. При этом, как отмечает сам автор, его критическая оценка была направлена не на то, чтобы «отдельно говорить о разных представителях автономной этики», а на то, чтобы «отыскать и представить то общее, что объединяет всех автономистов» [Гусев, 1894, 6]. Другими словами, в данном сочинении А. Ф. Гусевым была осуществлена попытка всестороннего типологического анализа феномена автономной морали, отрицающей органическую связь нравственности с религией.
По нашему мнению, важно, что в данном трактате А. Ф. Гусев вполне отчетливо определяет метод своей апологетической работы, направленный не только на то, чтобы отстоять истинность религиозного мировоззрения, но и на то, чтобы наладить диалог с инакомыслящими. Так, он замечает: «не можем не выразить искреннего желания, чтобы представители автономной этики в нашей „светской“ печати по возможности прямо и ясно высказались против того, что они находят в нашем сочинении не состоятельным. Мы рады выслушать особенно их замечания и возражения и будем весьма благодарны за каждое спокойное и дельное слово» [Гусев, 1894, 7].
С 1890-1891 уч. г. научно-преподавательский интерес А. Ф. Гусева все более сосредотачивается вокруг проблематики рационального обоснования религии вообще и христианства в частности, разработке которой был посвящен ряд его публикаций. Началом исследований в данной области фундаментально-теологического знания можно считать четвертую главу противотолстовского сочинения «Граф Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» [Гусев, 1890], под названием «Рациональные основания христианского теизма» [Гусев, 1890, 203–298]. В этой главе автор, доказывая несостоятельность скептицизма Л. Н. Толстого в отношении учения о Боге как Существе личном, Творце и Промыслителе Вселенной, уделяет внимание разбору Кантовой критики доказательств существования Бога и учению Г. Спенсера о непознаваемости Божества.
Обнаружив синкретический и внутренне противоречивый характер богословско-философских воззрений Л. Н. Толстого, нередко допускающих смешение противоположных идей — от позитивизма, плоского сенсуализма, утилитаризма и эвдемонизма до пантеизма, антропоцентризма, коммунизма, фатализма, протестантского сектантства и буддийского государственно-гражданского нигилизма, — А. Ф. Гусев в конечном итоге указывает на преимущественную зависимость мировоззрения Толстого от позитивизма Спенсера (см.: [Гусев, 1890, 212–218]). По его мнению, отрицая возможность богословской и философской метафизики, Л. Н. Толстой смело утверждал, что «никто не может доказать ему бытия Высшего Разума» [Гусев, 1890, 215]. Однако, не найдя у Спенсера специального трактата, посвященного доказательствам бытия Божия, эту свою уверенность Л. Н. Толстой основывает на Канте, доказавшем, по его мнению, невозможность вообще доказательств существования бытия Божия (см.: [Гусев, 1890, 215]).
-
А. Ф. Гусев, обращая внимание читателя, что в рамках своего сочинения он не имеет возможности представить обстоятельный разбор Кантовой критики доказательств бытия Божия, указывает в полемике с Л. Н. Толстым прежде всего на факт существования собственного нравственного доказательства Канта, а также на то, что «отвергнутые Кантом три доказательства бытия Божия были то в той, то в другой форме восста-новляемы и защищаемы весьма крупными представителями философской мысли, как напр. Гегелем» [Гусев, 1890, 221]. Что касается собственно философских контраргументов А. Ф. Гусева против Кантовой критики доказательств, то он вначале указывает на общие недостатки субъективно-идеалистической гносеологии кенигсбергского профессора, полагающей «непроходимую пропасть между нашим мышлением о предметах и их действительным бытием» [Гусев, 1890, 223], а затем переходит к опровержению критики самих трех доказательств, во многом следуя уже сложившейся в отечественном духовно-академическом основном богословии, в лице В. Д. Кудрявцева-Платонова и Н. П. Рождественского, традиции (см.: [Гусев, 1890, 224–236]).
Далее А. Ф. Гусев переходит к изложению критических замечаний в отношении позитивизма Спенсера, точнее, его учения о непознаваемости Божества (см.: [Гусев, 1890, 237–264]), в рамках которого в том числе утверждается несостоятельность теизма, признающего бытие личного Бога (см.: [Гусев, 1890, 264–282]).
В более детальной разработке вопрос обоснования личности Божества был представлен А. Ф. Гусевым в специальном исследовании [Гусев, 1896], в котором он утверждает идею о том, что «понятие личности не только не противоречит понятию об абсолютном существе, но прямо предполагается этим понятием» [Гусев, 1896, 58].
Проблематика рационального обоснования основных истин христианского вероучения была представлена А. Ф. Гусевым преимущественно в докторской диссертации, первая глава которой — «О сущности религии вообще и христианской религии в частности» [Гусев, 1902, 34–319], занимающая половину сочинения (285 с.), вполне могла бы считаться, по словам К. Г. Григорьева, цельным курсом апологетики, если бы не использованный в сочинении метод, приспособленный специально к критике толстовской доктрины [Григорьев, 1905, ч. 3, 277].
В данной главе А. Ф. Гусев не только опровергает возражения Л. Н. Толстого против главных истин христианской веры, но и тщательно, с присущей ему ясностью и точностью изложения мысли сообщает положительное содержание основных догматов христианства: о Боговоплощении, об Искуплении, о Церкви и таинствах. Главная цель предпринятых А. Ф. Гусевым апологетических усилий состояла в обосновании идеи исключительности христианской религии, т.е. того, что христианство — как Богооткровенная религия — в полной мере удовлетворяет самым требовательным религиозным потребностям человеческого духа, а его истины составляют сущность идеального вероучения. При этом, по его мнению, в данном контексте речь может идти только о церковной форме христианства, где религия находит для себя единственно полное выражение и осуществление.
Как уже было отмечено, статья «Единобожие ветхозаветной религии, как доказательство божественного ее происхождения» соответствует тематике второго раздела основного богословия — «Об Откровении». Однако, поскольку методологически обоснование Богооткровенного характера ветхозаветной религии в статье выстраивается от противного, т. е. через опровержение взглядов представителей т. н. эволюционного подхода в изучении религии, данный текст может быть отнесен по своему содержанию и к первому разделу дисциплины — «О Религии», к той его части, где дается критика натуралистических теорий происхождения религии.
Центр тяжести критической аргументации А. Ф. Гусева против эволюционистской теории, утверждавшей, что «ветхозаветная и новозаветная религии суть произведения чисто-естественные, возникшие вследствие медленного, но прогрессивного развития людей... из одних чисто естественных причин и условий, не прибегая к божественному откровению» [Григорьев, 1905, ч. 3, 197, 199], сосредотачивается вокруг ответа на вопрос о происхождении единобожия древних евреев, точнее, о невозможности получения удовлетворительного объяснения возникновения ветхозаветного монотеизма с точки зрения данной концепции.
Характеристика фундаментально-теологического наследия А. Ф. Гусева
Взвешенность аргументации, последовательность суждений и точность выводов, которые обнаруживаются при рассмотрении текстов А. Ф. Гусева, позволяют говорить о высоком научно-богословском уровне его апологетического наследия, а самого автора по праву считать одним из самых ярких представителей отечественной апологетической науки синодального периода. Отличительной особенностью творчества казанского профессора можно считать то, что в своей научно-богословской и преподавательской деятельности он всегда старался удовлетворить наиболее настоятельным нуждам современной действительности [Дружинин, 1904, 6]. Как отмечал проф. К. Г. Григорьев, «его (А. Ф. Гусева. — свящ. Д. Л. ) главной задачей было служить обществу ответами христианской науки на запросы текущей духовной жизни»; выполняя эту задачу, он «развернул перед своими читателями целую энциклопедию богословских знаний на пяти с половиной тысячах страниц» [Григорьев, 1905, ч. 3, 476].
Можно вполне согласиться с мнением одного из современников А. Ф. Гусева, что «едва ли мы впадем в преувеличение, если позволим себе сказать, что в последней четверти нашего времени никто из богословов вообще и специалистов-апологетов в частности так много не обогатил нашей богословской литературы весьма ценными работами по научной защите христианства пред различными подкопами под него и нападками на него, идущими с разных сторон — философии, историографии, естествознания и рационалистической философии» [Апологетические труды, 1889, 114]. Поэтому, считает проф. А. А. Бронзов, многочисленные сочинения А. Ф. Гусева «сделали его имя незабвенным в истории русской богословской литературы…» [Бронзов, 1904, 578].
По нашему мнению, проф. А. Ф. Гусев сумел аккумулировать в своем творчестве лучшие достижения фундаментально-теологической науки двух духовных академий России того времени — Санкт-Петербургской и Казанской. Влияние его учителя Н. П. Рождественского обнаруживается прежде всего в сохранении в программе и тщательной содержательной проработке специального отдела дисциплины, посвященного взаимоотношению религии с естественнонаучным знанием, нравственностью и эстетикой (ср.: [Рождественский, 1884, т. 1, 145–171]).
Подобно Н. П. Рождественскому, А. Ф. Гусев особое внимание уделил тематике апологетического изложения основных истин христианского вероучения, хотя и представил свои разработки не в виде отдельного трактата, а только, как уже было отмечено, в контексте полемики с толстовством (ср.: [Рождественский, 1884, т. 1, 395–427]). (Отметим, что из отечественных фундаментальных теологов наиболее продвинулся в этой области основного богословия профессор Киевского университета прот. Павел Светлов (1861-1941), автор капитального исследования, посвященного данной проблематике [Светлов, 1898; Светлов, 1905]12.)
Будучи представителем казанской школы основного богословия, А. Ф. Гусев учитывал и традиционные для нее направления апологетических исследований. Во-первых, следуя программе своего предшественника по кафедре прот. Александра Владимирского, особое внимание он уделил разбору и опровержению различных современных рационалистических богословских и философских учений, ставивших под сомнение истинность христианской веры (см.: [Отчет о состоянии КазДА, 1873, 13–14]). Во-вторых, он успешно применил введенный еп. Хрисанфом (Ретивцевым; 1832–1883) историкофилософский метод критического изучения других религий, в частности буддизма. В-третьих, как и архиеп. Никанор (Бровкович; 1826–1890), он подробно исследовал проблематику, относящуюся к четвертому разделу основного богословия, т. е. вопросы богословской методологии и учения о принципах богословского познания13.
Курс основного богословия А. Ф. Гусева охватывал три из четырех традиционных для данного предмета разделов — О религии, Об Откровении и О принципах богословского познания. Четвертый раздел — «Церковь», хотя и не был отдельно представлен в структуре его лекций, частично был разработан в противотолстовских полемических сочинениях (см.: [Гусев, 1890, 203–450; Гусев, 1902, 252–276]).
Продемонстрированную А. Ф. Гусевым в обсуждении фундаментальных мировоззренческих вопросов открытость к диалогу можно считать одним из достоинств его апологетической работы, что, несомненно, остается актуальным для современной фундаментально-теологической и апологетической церковной науки и практики.
В целом, незаурядные способности и потрясающая работоспособность сделали А. Ф. Гусева одним из корифеев духовно-академического основного богословия кон. XIX — нач. XX вв., поэтому мы можем с полной уверенностью говорить о том, что он стал достойным продолжателем дела становления и развития основного богословия в КазДА, начатого его выдающимися предшественниками по кафедре еп. Хри-санфом (Ретивцевым) и архиеп. Никанором (Бровковичем), в значительной мере положившим основания отечественной апологетической науки как таковой.
Также, обозревая деятельность А. Ф. Гусева, можно говорить о завершении формирования самостоятельной школы основного богословия КазДА, и не только ввиду достижения им значительных результатов фундаментально-теологических исследований, но и по причине того, что тщательно разработанные и заложенные им направления апологетической работы — здесь мы прежде всего имеем в виду критику актуальных противохристианских концепций западных ученых и антихристианских воззрений Л. Н. Толстого — нашли свое дальнейшее развитие у его ученика и преемника по кафедре проф. К. Г. Григорьева14.
В заключение следует отметить, что многие из представленных в основном богословии А. Ф. Гусева направлений фундаментально-теологических исследований, рассмотренных в настоящей статье, вполне могут стать в будущем предметом отдельного специального историко-аналитического изучения.
Список литературы Профессор Казанской духовной академии А. Ф. Гусев (1845-1904) как преподаватель основного богословия
- Апологетические труды (1889) — Б /а. Апологетические труды проф. А. Ф. Гусева // Вера и Церковь. 1889. Т. II. С. 114-132.
- Бронзов (1901) — Бронзов А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия // Христианское чтение. 1901. № 1. С. 29-45; № 2. С. 172-219. (№№ 1-12).
- Бронзов (1904) — Бронзов А.А. Проф. А. Ф. Гусев (Некролог) // Миссионерское обозрение. 1904. № 14. С. 576-579.
- Буткевич (1899) — Буткевич Т., прот. Исторический очерк развития апологетического или основного богословия. Харьков: Тип. Губернского Правления, 1899.
- ГАРТ — Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 10. ОП. 1. Д.11094. Л. 98 об. — 102 об.
- Гренков (1875) — Гренков А. И. Пионер науки о христианской нравственности // Православный собеседник. 1875. Ч. I. С. 23-64.
- Григорьев (1905) — Григорьев К. Г. Памяти профессора Александра Федоровича Гусева (1845-1904). Очерк его учено литературной деятельности // Православный собеседник. 1905. Ч. 2. С. 553-576; 1905. Ч. 3. С. 68-89, 261-283, 467-477.
- Гусев (1874а) — Гусев А.Ф. Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный предмет науки. Разбор теории Бокля // Православное обозрение. 1874. 1-е полугодие. С. 495-528, 609-634; 2-е полугодие. С. 3-32
- Гусев (1874б) — Гусев А.Ф. Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству СПб.: Тип. А. И. Половицкого и К°, 1874. 283 с.
- Гусев (1875) — Гусев А. Ф. Огюст Конт, как автор «Курса положительной философии» и «Положительной политики» // Православное обозрение. 1875. Т. III. С. 690-730.
- Гусев (1875-1878) — Гусев А.Ф. Джон Стюарт Милль как моралист // Православное обозрение. 1875. Т. I. 101-131; 445-471; Т. II. С. 618-653; Т. III. С. 99-139; 1876. Т. II. С. 271-312; 1877. Т. II. С. 311-368; 1878. Т. II. С. 567-595.
- Гусев (1877а) — Гусев А.Ф. Предисловие к новому опыту православного догматического богословия // Православное обозрение. М., 1877. Т. III (декабрь). С. 748-753.
- Гусев (1877б) — Гусев А. Ф. Фиктивный союз материализма с естествознанием // Православное обозрение. 1877. Т. II. С. 442-498; 604-651.
- Гусев (1878а) — Гусев А. Ф. Введение в догматическое богословие: важность и значение догматов (против так называемых антидогматистов) // Православное обозрение. М., 1878. Т. I (февраль). С. 172-193; Т. I (март). С. 370-392.
- Гусев (1878б) — Гусев А. Ф. Введение в догматическое богословие: понятие о догматическом богословии и о догматах // Православное обозрение. М., 1878. Т. I (январь). С. 57-81.
- Гусев (1878в) — Гусев А. Ф. Ложные воззрения по вопросу об усовершаемости христианства // Православное обозрение. М., 1878. Т. I (апрель). С. 544-572; Т. II (май-июнь). С. 241-274.
- Гусев (1878-1879) — Гусев А. Ф. Натуралист Уоллэс и его русские переводчики // Православное обозрение. 1878. Т. III. С. 481-510; 767-810; 1879. Т. I. С. 60-107; С. 233-264; С. 430-470.
- Гусев (1885) — Гусев А. Ф. Христианство в его отношении к философии и науке. М.: Университетская типография (М. Катков), 1885. 99 с.
- Гусев (1886) — Гусев А. Ф. Зависимость морали от религиозной или философской метафизики. По поводу Исповеди графа Л. Н. Толстого. М.: Университетская тип. (М. Катков), 1886. 95 с.
- Гусев (1887) — Гусев А.Ф. Потребность и возможность научного оправдания христианства // Православный собеседник. 1887. № 3. С. 352-382.
- Гусев (1889) — Гусев А. Ф. Религиозность как основа и опора нравственности // Православное обозрение. 1889. Т. II. С. 3-66.
- Гусев (1890) — Гусев А. Ф. Граф Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера. М.: Университетская тип., 1890. 460 с.
- Гусев (1894) — Гусев А. Ф. Религиозность как основа нравственности. Против автономистов. Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1894. 194 с.
- Гусев (1895) — Гусев А. Ф. Единобожие ветхозаветной религии как доказательство божественного ее происхождения // Вера и разум. 1895. Т. I. Ч. II. С. 197-221; 263-286.
- Гусев (1896) — Гусев А.Ф. Разбор возражений Спенсера и его единомышленников против учения о Боге, как личном Существе. Казнь: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1896. 58 с.
- Гусев (1902) — Гусев А.Ф. О сущности религиозно-нравственного учения Л.Н. Толстого. Казань: Издание книжного магазина А. А. Дубровина, 1902. 620 с.
- Дружинин (1904) — Дружинин А.И. Слово вместо запричастного стиха на заупокойной литургии // Профессор Александр Федорович Гусев (Некролог) / Сост. В. В. Колокольцев. Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1904. С. 1-9.
- Журавский (2006) — Журавский А. В. Гусев Александр Федорович // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. XIII. С. 499-500.
- Журналы Совета СПбДА (1874) — Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии за 1874 г. СПб.: Типография Департамента уделов, 1874. 347 с.
- Колобов (1904) — Колобов М. свящ. Речь по совершении литии // Профессор Александр Федорович Гусев (Некролог) / Сост. В. В. Колокольцев. Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1904. С. 15-17.
- Колокольцев (1904) — Колокольцев В.В. Биография А.Ф. Гусева // Профессор Александр Федорович Гусев (Некролог) / Сост. В. В. Колокольцев. Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1904. С. 27-30.
- Колыванов (2010) — Колыванов Г.Е. Кафедра естественно-научной апологетики Московской духовной академии (1870-1903) в лице Д. Ф. Голубинского // Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 325-летию Московской духовной академии (16852010). Сергиев Посад, 2010. № 11-12. С. 265-274.
- Лушников (2021а) — Лушников Д.Ю., свящ. Основное богословие: учебник бакалавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021.
- Лушников (2021б) — Лушников Д., свящ. Учение о принципах богословского познания в основном богословии архиепископа Никанора (Бровковича; 1826-1890) // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 192-206.
- Лушников (2023а) — Лушников Д., свящ. Анализ курса лекций по основному богословию архиепископа Никанора (Бровковича) // Христианское чтение. 2023. № 4. С. 56-69.
- Лушников (2023б) — Лушников Д. Ю, свящ. Историко-философский метод основного богословия епископа Хрисанфа (Ретивцева; 1832-1883) // Вестник Екатеринбургской семинарии. 2023. № 42. С. 74-94.
- Лушников, Ларионов (2024) — Лушников Д.Ю., Ларионов Д.С. Константин Григорьевич Григорьев (1875-1833) — последний преподаватель основного богословия Казанской Духовной Академии // Вопросы теологии. 2024. [Принято к публикации].
- Отчет о состоянии КазДА (1873) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1872-73 учебный год. Казань: В тип. ун-та, 1873.
- Отчет о состоянии КазДА (1887) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1886-1887 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1887.
- Отчет о состоянии КазДА (1888) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1887-1888 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1888.
- Отчет о состоянии КазДА (1889) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1888-1889 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1889.
- Отчет о состоянии КазДА (1890) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1889-1890 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1890.
- Отчет о состоянии КазДА (1891) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1890-1891 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1891.
- Отчет о состоянии КазДА (1893) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1892-1893 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1893.
- Отчет о состоянии КазДА (1894) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1893-1894 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1894.
- Отчет о состоянии КазДА (1896) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1895-1896 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1896.
- Отчет о состоянии КазДА (1898) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1897-1898 учебный год. Казань: Тип. Имп. Унив., 1898.
- Отчет о состоянии КазДА (1900) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1899-1900 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1900.
- тчет о состоянии КазДА (1901) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1900-1901 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1901.
- Отчет о состоянии КазДА (1902) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1901-1902 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1902.
- Отчет о состоянии КазДА (1903) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1902-1903 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1903.
- Отчет о состоянии КазДА (1904) — Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1903-1904 учебный год. Казань: Типо-лит. Имп. Унив., 1904.
- Рождественский (1884) — Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия, читанный студентам в 1881/2 учебном году / Под ред. проф. А. И. Предтеченского: в 2 т. СПб.: Тип. Дома Призрения Малолетних Бедняков, Лиговка, д. № 16, 1884. Т. 1.
- Светлов (1898) — Светлов П., прот. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения. Киев, 1898. Т. I—II.
- Светлов (1905) — Светлов П., прот. Курс апологетического богословия. Киев, 1905.
- Светлов (1907) — Светлов П., прот. Что читать по богословию? Систематический указатель апологетической литературы на русском, немецком, французском и английском языках (248-1906 гг.). Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1907. VI, 266 с.