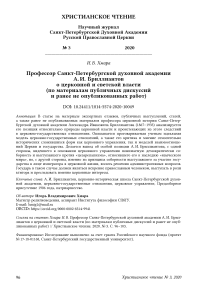Профессор Санкт-Петербургской духовной академии А. И. Бриллиантов о церковной и светской власти (по материалам публичных дискуссий и ранее не опубликованных работ)
Автор: Хмара Игорь Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (92), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале экспертных отзывов, публичных выступлений, статей, а также ранее не опубликованных материалов профессора церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Александра Ивановича Бриллиантова (1867-1933) анализируется его позиция относительно природы церковной власти и проистекающих из этого следствий в церковно-государственных отношениях. Описывается проговариваемая ученым идеальная модель церковно-государственных отношений, а также его критика и мнение относительно исторических сложившихся форм как церковного управления, так и моделей взаимоотношений Церкви и государства. Делается вывод об особой позиции А. И. Бриллиантова, с одной стороны, видевшего в основании церковного управления понимаемую демократически соборность и выступавшего против «цезарепапизма», относившего его к наследию «языческого мира», но, с другой стороны, именно из принципа соборности выступавшего за участие государства в лице императора в церковной жизни, вплоть решения административных вопросов. Государь в таком случае должен являться искренне православным человеком, выступать в роли ктитора и преследовать именно церковные интересы.
А. и. бриллиантов, церковно-историческая школа санкт-петербургской духовной академии, церковно-государственные отношения, церковное управление, предсоборное присутствие 1906 года, патриаршество
Короткий адрес: https://sciup.org/140249042
IDR: 140249042 | DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10049
Текст научной статьи Профессор Санкт-Петербургской духовной академии А. И. Бриллиантов о церковной и светской власти (по материалам публичных дискуссий и ранее не опубликованных работ)
Об авторе: Игорь владимирович Хмара
Магистр религиоведения, аспирант Института философии СПбГУ.
Ссылка на статью: Хмара И. В. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии А. И. Бриллиантов о церковной и светской власти (по материалам публичных дискуссий и ранее не опубликованных работ) // Христианское чтение. 2020. № 3. С. 96–103.
Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01168, Санкт-Петербургский государственный университет).
KhRiStiAnSKoye chteniye [christian Reading]
Scienti^c JournalSaint Petersburg ^eological Academy Russian orthodox church
no. 3 2020
Igor V. Khmara
Professor A. brilliantov of Saint Petersburg ^eological Academy on Secular and church Power
(based on the material of Public discussions and unpublished Works)
Master in Religious Studies, Postgraduate Student at the Institute of Philosophy of St. Petersburg State University.
Когда приходится писать о науке в Санкт-Петербургской духовной академии в конце XIX — начале ΧΧ в., одной из самых ярких становится тема сформировавшейся тогда и представленной именами И. Е. Троицкого, В. В. Болотова, И. С. Паль-мова, П. н. Жуковича, А. И. Бриллиантова и т. д. церковно-исторической школы. Само это понятие, попытки определения которого отмечаются лишь с недавних пор (так, можно отметить, по-видимому, первые публикации, выделяющие понятие именно школы, стремящиеся найти ее своеобразие, в томе «Богословских трудов», выпущенном к 175-летию Санкт-Петербургской духовной академии в 1986 г. [Гундяев, 1986; Павлов, 1986]), часто современными исследователями определяется по принципу кафедральной принадлежности: «Даже весьма общий обзор позволяет увидеть, во-первых, что церковно-исторические кафедры в столичной академии занимали ее же выпускники. Во-вторых, вследствие сложившейся в духовных академиях традиции, каждую кафедру чаще всего занимал ученик предшествующего профессора. Т. е. можно определенно говорить о складывании традиций, неких особенностей, присущих и свойственных каждой исторической школе» [Карпук, 2015]. Однако складывавшиеся традиции не имели просто формальное значение, но играли решающую роль в формировании внутри петербургской школы особой исследовательской стратегии и метода, отличающих ее ученых от коллег из Московской или Киевской духовных академий.
В указанном ряду петербургских церковных историков малое внимание в литературе и исследованиях отводится Александру Ивановичу Бриллиантову (1867–1933), хотя его жизнь и творческая биография не могут не представлять интерес в контексте исследования наследия Санкт-Петербургской церковной-исторической школы. Выпускник Тульской духовной семинарии, отучившийся затем в Санкт-Петербургской духовной академии, он достаточно рано прославился своей работой «Влияние восточного богословия на западное в трудах Иоанна Скота Эригены» [Прав. Энц.]. Он являлся прямым учеником В. В. Болотова, умершего в 1900 г. Интересно, что именно Бриллиантову принадлежит большинство памятных статей о Болотове, опубликованных в журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» (из 10 статей, вышедших с 1900 по 1910 гг., шесть принадлежат Александру Ивановичу), именно он подготовил посмертное издание лекций Василия Васильевича по церковной истории. Бриллиантов не только занимался систематизацией и публикацией творчества учителя (показательно, что в фонде Бриллиантова в РнБ находятся конспекты, написанные рукой В. В. Болотова во времена его студенчества (sic!) (РнБ ОР. Ф. 102. № 406)), но также был ярким исследователем, достоинства которого подчеркивает факт присвоения ему «в виде изъятия из общего правила» в 1904 г. должности экстраординарного профессора вне штата Санкт-Петербургской духовной академии. По этому случаю ректор Академии архиеп. Сергий (Страгородский) при представлении на утверждение этого решения митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию (Вадковскому) дал следующую характеристику: «Первым кандидатом на избрание в звание экстраординарного профессора в нашей Академии является доцент А. И. Бриллиантов, выдающиеся качества которого как преподавателя и научные заслуги вполне известны и Вашему Высокопреосвященству. Будучи учеником почивших столпов нашей Академии И. Е. Троицкого и В. В. Болотова, Бриллиантов является прямым наследником их духа и их бескорыстного служения науке» (Журналы заседания Совета СПбДА, 1904, 69).
на 1900-е и 1910-е гг. приходится основная общественная нагрузка Александра Ивановича Бриллиантова. Действительно, именно в это время он как представитель Духовной академии участвует в заседаниях Религиозно-философских собраний (1901–1903), его доклад по вопросам церковного управления попадает как приложение к отзыву митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) о церковной реформе, он также входит в состав Предсоборного присутствия 1906 г. и участвует в нескольких его отделах, в 1917–1918 гг. он — член Поместного Собора. Сохранившиеся реплики и доклады Бриллиантова, подготовленные к работе в указанных собраниях, представляют исследовательскую ценность и являют, фактически, практическое приложение теоретических изысканий санкт-петербургской церковно-исторической школы. Период, последовавший за 1917 г., характеризуется для А. И. Бриллиантова амбивалентно: с одной стороны, это время социальной нестабильности, связанной с положением дел в стране в целом, с закрытием Санкт-Петербургских духовных школ и т. д. В это время он не имеет возможности публиковаться, однако, с другой стороны, он активно собирает и дорабатывает имеющийся материал, пишет монографии. Одна из них, характеристика которой будет дана ниже, — это «История развития папской власти на Западе», также сохранился подготовительный материал, связанный со свт. Иоанном Златоустом и историей монофелитского спора. Сопрягая эти данные, очень удобно реконструировать позицию Александра Ивановича Бриллиантова относительно церковной власти и особенностей ее взаимоотношения со светской властью.
Идеал государственной власти в ее соотношении с Церковью рассматривается петербургским историком в 1910-е гг. Именно на этот период приходится широко обсуждавшийся 1600-летний юбилей Миланского эдикта, положившего явное начало диалогу христианской Церкви и римской государственности. Плоды этого диалога подробно, порой с изрядной долей критики и скептицизма, обсуждались в немецкой церковно-исторической науке XIX в., оказавшей влияние на церковную науку в России. В связи с юбилеем в духовных академиях Русской Церкви проходили собрания, в обществе вновь поднимался вопрос об исторических результатах эдикта, его значимости и ценности, в особенности — для христианских общин. А. И. Бриллиантов произнес речь на торжественном акте Санкт-Петербургской духовной академии, опубликованную затем в научном журнале СПбДА «Христианское чтение». В ней он подчеркивает преемственность установкам памятного акта, благодаря которому «создаются в своей основе те формы отношения Церкви и государства, которые продолжают существовать именно на Востоке во все дальнейшее время» (Бриллиантов, 1914, 23–24). Значительное же достижение Миланского эдикта заключается, по Бриллиантову, в изменении принципа церковно-государственного взаимодействия: от определяемого как языческий — культа государства, с неизбежным подчинением его интересам религиозной области — к обособлению и уже влиянию Церкви на разные стороны государственной жизни, весь строй которой претерпевает изменения. Такая «революция» стала возможной благодаря личности императора Константина, ему Александр Иванович посвящает целый цикл статей, имеющих общее название «Император Константин и Миланский эдикт 313 года». Все они относятся к указанному периоду 1910-х гг. и позже изданы монографией. Большая часть этих трудов касается различных исторических тонкостей принятия эдикта, однако в них присутствуют и оценки рецепции личности Константина и его трудов. Критике подвергаются зарубежные историки с разными взглядами, но единые во мнении о том, что сближение Церкви и государства — отрицательное явление. Речь идет о Гиббоне, для которого этот процесс — предтеча падения Римской империи, и Арнольде, усматривавшем как следствие падение нравов внутри христианского сообщества. Отметим, что Бриллиантов солидарен в негативной оценке возникавших после Константина форм цезарепапизма, однако он отмечает: «историческая оценка исторического значения Церкви и государства может быть дана только в том случае, когда следствия его берутся в полном объеме, а не выдвигаются лишь какие-либо отдельные стороны. И если имеются в данном случае и далеко не светлые воспоминания из истории прошлого, сумма тех положительным следствий, которые имели своим источником этот союз, в целом так велика, что большего или меньшего положительного значения его в прошлом не могут отрицать и те, кто наиболее склонны указывать темные стороны» (Бриллиантов, 1916, 430). К положительным следствиям для государства относится гуманизация различных сторон его жизни, а для Церкви — распространение ее миссии по всему миру. Можно задаться вопросом о корректности соотнесения данной позиции с собственной точкой зрения А. И. Бриллиантова, учитывая публикацию этих заметок в рамках празднования юбилея в научном журнале Духовной академии столицы Российской империи. Однако ряд косвенных данных убеждает в искренности его позиции.
В 1904 г. по поручению Совета Санкт-Петербургской духовной академии Бриллиантов пишет отзыв на работу своего коллеги доцента иером. Михаила (Семёнова) «Законодательство римских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви (от 313 до 565 года)», поданной на соискание премии Л. П. Стаховского. Иером. Михаил в четырех частях своей книги, рассматривая состояние законодательства Римской империи по указанному вопросу, выделяет две тенденции — «римскую», языческую, модель государственного всевластья, приведшую к такому явлению, как «цезарепа-пизм», и модель «оцерковленного государства», в котором испытывается уважение к каноническому праву Церкви. Иером. Михаил (Семёнов) делает вывод, что со временем именно языческая модель получила большее распространение. В упомянутом отзыве на эту книгу помимо критики исторических нюансов А. И. Бриллиантов сделал замечание, что автор не совсем прав в строгом вердикте и не всегда в рассматриваемый период у государства наблюдались столь предосудительные мотивы, как порабощение Церкви (Бриллиантов, 1904, 86–87).
некоторые выводы о взглядах ученого можно сделать по неопубликованной рукописи, хранящейся в архиве Бриллиантова в Российской национальной библиотеке, «Император Константин Великий в историческом и легендарном предании и в ученой литературе». Она представляет собой 82 крупных листа, исписанных характерным для автора мелким почерком. Вероятнее всего, данная работа была подготовлена в 1913–1914 гг. В ней Александр Иванович не просто анализирует отношение разных авторов к императору Константину как к символической и исторической фигуре, но пытается ответить на вопрос о том, как совмещались в мировоззрении и складе ума этого римского императора религиозное и политическое начала. Талантливый политик и религиозный деятель, вставший на путь сближения с Церковью, — что им двигало? Ответ Бриллиантова — абсолютно искреннее религиозное чувство, которое ставит императора Константина в особое положение в сравнении с другими христианскими императорами. Приведем характерное место: «Религиозный вопрос имел для него первостепенное значение, и какую бы роль ни играли политические соображения, в общем для него основным мотивом был в той или иной форме мотив религиозный. Это относит его весьма далеко не только от наполеона, но и от Петра Великого, для которого главный интерес отношения к религии сосредотачивался, по-видимому, лишь в том, чтобы она не препятствовала его государственным преобразованиям» (РнБ ОР. Ф. 102. № 31. Л. 80).
Таким образом, по А. И. Бриллиантову, идеальным типом церковно-государственных отношений является симфоническое взаимодействие, обеспечиваемое, в первую очередь, религиозной настроенностью главы государства, идеалом в данном случае выступает образ Константина Великого.
Исходя из этого становится ясной позиция Бриллиантова об отношении Церкви к государству в лице императора. Она обозначается в рамках дискуссий Предсобор-ного присутствия 1906 г., первый отдел которого был посвящен теме организации Поместного Собора. на заседании 7 июня 1906 г. был вынесен на обсуждение документ «Об отношении высшего правительства Православной Российской Церкви к верховной государственной власти». Проект подготовили профессора И. С. Бердников, М. А. Остроумов, А. И. Алмазов, М. Е. Красножен. Среди важных пунктов положения можно выделить определение функции государя императора как защитника Церкви, который дает соизволение на церковные решения, но, тем не менее, в пункте 3 предполагалось, что «Православная Русская Церковь в своих внутренних делах управляется свободно своими учреждениями под верховной защитой государя императора», предполагалось также сохранить должность обер-прокурора, но свести его функции к представительским (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 419–420). Критической явилась реакция на этот документ юриста и специалиста по каноническому праву николая Дмитриевича Кузнецова, выступившего с особым мнением, в котором, в частности, он подчеркнул роль императора по отношению к Церкви как «блюстителя-попечителя», из чего следует необходимость больших полномочий при решении церковных вопросов как для него, так и для его представителя — обер-прокурора, который должен иметь возможность не только наблюдать за обсуждением, но и участвовать в нем. Подчеркивалась необходимость для императора быть православным (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 423). Бриллиантов присоединился к изложенному мнению (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 426).
Такое видение роли императора в церковных делах проистекает из понимания устроения внутрицерковного управления. Вопрос о церковном управлении артикулирован у Бриллиантова наиболее четко в рамках дискуссий первого и второго отделения Предсоборного присутствия, которые занимались вопросами реформы церковного управления. Один из главных и бурно обсуждаемых на Предсоборном присутствии вопросов — это вопрос о восстановлении канонического порядка управления Церковью, что требовало анализа исторического опыта и определения, собственно, нормы канона. Полемика в связи с этим велась о восстановлении патриаршества, а также об учреждении митрополичьих округов. По данным темам мы находим примечательные реплики А. И. Бриллиантова. Он отмечает, что сильная центральная власть «стесняет» проявление соборности (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 438). В основании церковной власти лежит именно соборное начало, когда управление Церковью является делом не только лишь епископов, но и простых клириков и мирян. В качестве практического проявления соборности Бриллиантов, в частности, предлагал ввести систему епархиальных съездов, делегатами которых были бы как клирики, так и миряне (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 136).
Соборную природу церковной власти Бриллиантов также подчеркивает в уже упоминавшемся приложении к отзыву по вопросам церковной реформы митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) от 1906 г. В нем, затрагивая тему исторической практики митрополичьего и патриаршего церковного управления, А. И. Бриллиантов отмечает, что согласно канонам именно собор является высшей церковной властью. Особое положение митрополитов возникает именно в связи с их председательством на соборах, а отсюда следует невозможность любого единоличного управления Церковью, поскольку оно должно осуществляться соборно, т. е. в союзе с представителями власти в отдельных епископиях и митрополиях (Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы, 2014, 265), а также с представителями клира и мирян, всех вместе выражающих «общецерковное сознание в данной Церкви» (Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы, 2014, 273). но что, в сущности, означает такое управление? Собор с председательствующим осуществляет законодательную (он продуцирует каноны Церкви) и судебную функции. Эти аргументы подталкивают Бриллиантова к отрицанию системы патриаршего управления в том виде, как она сложилась в Византии, да и в России, а также системы митрополичьего управления. Рассматривая их происхождение, он делает вывод: «централизация церковной власти уже в первой инстанции окружного управления — митрополитанском управлении, утвердившись первоначально на почве соборности, в дальнейшем своем развитии оттесняет соборное начало на задний план и получает не вполне согласное с основным духом церковной жизни направление. С еще большим правом нужно сказать это, применяя указанный выше критерий о высшем управлении Константинопольского патриархата» (Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы, 2014, 267).
Достаточно жестко Бриллиантов оценивает систему патриаршего управления, ссылаясь на исследования своего предшественника И. Е. Троицкого. Он утверждает, что концентрация церковной власти в руках патриарха — это лишь следствие подчинения Церкви государству, для которого было важно получить единый инструмент влияния на нее (Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы,
2014, 269). Присвоение власти патриархом также оценивается как некая форма «папизма», о православной форме которой говорил Бриллиантов на заседаниях Предсобор-ного присутствия, приводя слова Троицкого: «Вообще принято думать, что Восточная Церковь не знает папизма. Это верно только отчасти. Она, действительно, не знала, точнее сказать, не признавала западного папизма, но имела свой, чисто греческий. Отличие от западного состоит в том, что западный папизм был и есть единоличный, сосредотачивается весь в одном лице — папы, а восточный папизм — коллективный — вся иерархия в полном составе есть папа, и каждый член ее в отдельности имеет такое же право на эту общую прерогативу иерархии, как и всякий другой» (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 273).
Все эти аргументы склоняют Бриллиантова к позиции, что нет необходимости в патриаршестве по модели Византии, а предстоятелем Церкви может считаться председатель Синода епископов (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2016, 274) как центрального органа для управления в межсоборный период (Журналы и протоколы Предсоборного присутствия, 2014, 273).
Уже после восстановления патриаршества на Поместном Соборе 1917–1918 гг. мы находим в трудах А. И. Бриллиантова подобную позицию. К этому периоду относится (по-видимому, неоконченная) монография на 120 крупных листов, исписанных с двух сторон мелким почерком: «История развития папской власти на Западе». В работе скрупулезно рассматривается история Римской кафедры, ее взаимоотношение с другими епископскими кафедрами, вплоть до деятельности Римских пап и их взаимоотношений с древними патриархатами в конце первого тысячелетия. В самом начале раскрывается историческое оформление патриаршего статуса. Первостепенное значение в этом процессе, с точки зрения Бриллиантова, имел политический фактор, канонически носители этого титула равнозначны между собой, и не только между собой, но и между другими епископами. Границы их власти ограничиваются лишь пределами управляемой кафедры (РнБ ОР. Ф. 102. № 87. Л. 1). Тот же политический фактор лежал в основе возвышения Римских пап, воспринимавшихся патриархами Запада (РнБ ОР. Ф. 102. № 87. Л. 2).
Таким образом, для А. И. Бриллиантова именно представления о природе церковной власти, являющейся в демократическом смысле соборной, определяют церковно-государственные отношения, идеальный симфонический тип возможен только тогда, когда глава государства сам является членом Церкви, ее главным ктитором, подчинение же Церкви государственным интересам рассматривается в контексте наследия «языческого мира».
Список литературы Профессор Санкт-Петербургской духовной академии А. И. Бриллиантов о церковной и светской власти (по материалам публичных дискуссий и ранее не опубликованных работ)
- Бриллиантов (1904) - Отзыв доцента А. И. Бриллиантова о представленном на соискание премии Л. П. Стаховского сочинении доцента Академии иеромонаха Михаила "Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви. (От 313 до 565 года) // Журналы заседаний Совета С.-Петербургской духовной академии за 1903-1904 учебный год (в извлечении). СПб., 1904. С. 85-93.
- Бриллиантов (1914) - Бриллиантов А. И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 года // Христианское чтение. 1914. № 1. С. 23-53.
- Бриллиантов (1916) - Бриллиантов А. И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 года // Христианское чтение. 1916. № 4. С. 420-433.
- Журналы заседания Совета СПбДА (1904) - Журналы заседания Совета СПбДА за 1903-1904 учебный год (в извлечении). СПб., 1904. С. 69.
- Журналы и протоколы Предсоборного присутствия (2014) - Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного присутствия (1906). М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2014. Т. 1. 896 с.
- Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы (2014) - Отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2014. Ч. 2. 1056 с.
- РНБ ОР - Российская Национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 102. № 31; № 87; № 406.
- Гундяев (1986) - Кирилл (Гундяев), архиеп. Богословское образование в Петербурге-Петрограде-Ленинграде: традиции и поиск // Богословские труды. Сборник, посвященный 175-летию ЛДА. М.: Издательство Московской Патриархии, 1986. С. 6-35
- Карпук - Карпук Д. А. Церковно-историческая школа Санкт-Петербургской духовной академии (вторая половина XIX - начало XX века). URL: https://spbda.ru/publications/ cerkovno-istoricheskaya-shkola-sankt-peterburgskoy-duhovnoy-akademii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv/ (дата обращения: 17.04.2020).
- Павлов (1986) - Иннокентий (Павлов), иером. Санкт-Петербургская Духовная Академия как церковно-историческая школа // Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175-летию Ленинградской Духовной Академии. М., 1986. С. 211-268.
- Прав. Энц. - Бурега В. В. Бриллиантов // Православная Энциклопедия. Т. 6. С. 249-250. URL: http://www.pravenc.ru/text/153437.html (дата обращения: 17.04.2020).