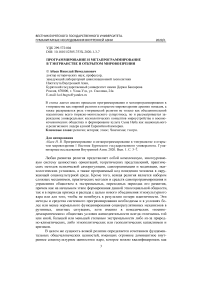Программирование и метапрограммирование в тэнгрианстве и открытом мировоззрении
Бесплатный доступ
В статье дается анализ процессов программирования и метапрограммирования в тэнгрианстве как мировой религии и открытом мировоззрении древних номадов, а также раскрывается роль тэнгрианской религии не только как объединительной идеологемы всего тюркско-монгольского суперэтноса, но и рассматривается зарождение универсальных космологических концептов мироустройства в военнокочевнических обществах и формирование культа Сына Неба как национального и религиозного лидера единой Евразийской империи.
Религия, история, этнос, чингисхан, тэнгри
Короткий адрес: https://sciup.org/148315829
IDR: 148315829 | УДК: 299.572:004 | DOI: 10.18101/2305-753X-2020-1-3-7
Текст научной статьи Программирование и метапрограммирование в тэнгрианстве и открытом мировоззрении
Абаев Н. В. Программирование и метапрограммирование в тэнгрианстве и открытом мировоззрении // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2020. Вып. 1. С. 3‒7.
Любая развитая религия представляет собой комплексную, многоуровневую систему ценностных ориентаций, теоретических представлений, практических методов психической саморегуляции, самоорганизации и медитации, психологических установок, а также программный код поведения человека в окружающей социокультурной среде. Кроме того, всякая религия является набором сложных механизмов, практических методов и средств самопрограммирования и управления обществом в экстремальных, переходных периодах его развития, причем как на начальном этапе формирования данной этносоциальной общности, так и в периоды кризиса и распада с целью нового объединения этнокультурного ядра или для того, чтобы не погибнуть в результате потери идентичности. Эти методы и средства системного программирования необходимы и в условиях более или менее нормального функцинирования социорегулятивных механизмов в рутинных, штатных ситуациях, хотя именно в номадических «военнодемократических» обществах условия жизнедеятельности всегда отличались той или иной, большей или меньшей степенью экстремальности либо из-за природно-климатических, либо этнополитических или геополитических катаклизмов и кризисов.
В целом же сущность всякой религии определяется сочетанием фундаментальных общечеловеческих ценностей, имеющих огромное доминантное внутреннее социокультурное ценностное ядро, которое можно квалифицировать как фрактал. В этом ядре содержатся и духовно-культурные, языковые, фольклорные традиции, воплощающие в себе исторический опыт общих предков, осколки архаических верований, архетипов, народного эпоса и многое другое. Но самое главное и сущностное в любой религии, в том числе в тэнгрианской, то, что в этой доминанте в явной или неявной форме содержится этос — сама «живая душа» данного народа, его этика, моральные критерии и основы, нормы нравственного поведения, в том числе Кодекс рыцарской чести, идеалы высшей справедливости, товарищества и братства, правила общинной, клановой взаимопомощи, коллективной, клановой или корпоративной солидарности и взаимовыручки.
Вместе с тем тэнгрианство имело весьма нетривиальную структуру, более сложную, чем другие монотеистические религии времен Чингисхана, что было обусловлено характерными особенностями военно-кочевнической демократии, уникальной духовной, ментальной и экологической культуры, этноэкологиче-ских традиций именно тюрко-монгольских народов Внутренней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Расширение масштабов понимания мира Тэнгри как безграничного Космоса, как Вселенной, Универсума, управляемого «Вечным Синим Небом» не вело к упрощению его структуры: на всех иерархических ступенях кочевнического общества можно увидеть одинаково сложную картину понимания мира, в то же время стройную, ясную и унифицированную, какой ее видел и обычный номад, и сам правитель и Верховный Жрец Чингисхан. Можно сказать, что тэнгрианство было не просто религией, но и открытым мировоззрением, и метафизикой и философией, и религиозной философией, которая помогла номадам создать огромную империю на всем пространстве великой Евразии.
Программирование в тэнгрианской религии
Таким образом, все мировые религии, и особенно тэнгрианство, определяли наиболее сущностные черты и «квинтэссенцию» этоса (дух, характер) народа, который дает установку и программу не только в краткосрочном периоде, но и на целые столетия и тысячелетия. Тем более, что тэнгрианство, в сущности, было не только народной, «национальной» и государственной религией тюрко-монголов Внутренней и Центральной Азии, но и, по определению первого доктора философских наук, защитившегося по тэнгрианству, Н. Г. Аюпова, одновременно было (и является) открытым мировоззрением [1].
О сходности религии и идеологии вообще в философско-методологическом плане писал В. Р. Фельдман в своей фундаментальной монографии «Идеология в социально динамическом процессе». Так, он считал, что религия определяла для народа ценностные установки и моральные ориентиры [2], однако, на наш взгляд, она была намного сложнее и входила во все структуры жизни общества от экономики до культуры. Именно тэнгрианская религия на массовом, «популярном» уровне, который мы квалифицируем как «народную религию», стала определять сознание и бытие монгольского номада, тем самым программируя его стиль мышления и социального поведения, весь образ его действий и поступков.
Вместе с тем уровень программирования определенных установок предполагает наличие еще более высокого уровня регулятивности и способности к метапрограммированию когнитивных и поведенческих моделей, а также стратегических установок более глобального, универсального, вселенского и космическо- го масштаба на основе таких метасистемных синергетических аттракторов, как, например, тэнгрианский концепт Вечного Синего Неба, представлявший собой аналог западных понятий «Бог», Абсолют, трансценденция, супранатуралистиче-ская «надреальность» и игравший роль сакральной вертикали, соединяющей три главные сущности или сакральные ценности всей Евразийской мегацивилизации — Небо, Земля и Человек.
Метапрограммирование является видом программирования, связанным с созданием программ, которые порождают другие программы как результат своей работы (в частности, на стадии компиляции их исходного кода), либо программ, которые меняют себя во время самореализции или выполнения исходных программ, т. е. представляя собой самомодифицирующийся код. Одним из синергетических инструментов самоорганизации и дальнейшего развития сложно упорядоченных систем может служит аттрактор, создающий вектор дальнейшего функционирования, развития и движения конкретной системы, каковым в тэн-грианской цивилизации и было Вечное Небо Тэнгри.
Исполнителем же его «Воли», т. е. его метапрограммы, стал Чингисхан, гениальный стратег и политический деятель, объединивший все монгольские племена. Однако объединить разрозненные племена без крепкой идеологической базы путем лишь одной физической силы невозможно. Именно поэтому он взял важную вселенскую миссию Верховного жреца мировой тэнгрианской религии, харизматичного «сына Неба», обладавшего огромной харизмой, интуитивной мудростью и духовной властью. Тувинский философ В. Р. Фельдман также отмечал, что с тэнгрианством у древних кочевнических народов были связаны многие идеологические и синергетические функции, в том числе (и прежде всего) роль своеобразного надсистемного аттрактора [2, с. 209].
Выполняя роль такого аттрактора, тэнгрианство являлось эффективным способом и средством социальной самоорганизации и саморегуляции, а также универсальной сакральной вертикалью, выполняющей разнообразные синергетические функции в кочевнических обществах тюрко-монгольских народов Центральной Азии и Алтай-Байкальского региона. Тэнгрианство, как и родственная ему «религия ариев», первых индоевропейских номадов (древних иранцев, индоариев, сарматов, массагетов, саков-скифов и др.), с самого начального периода возникновения и развития «кочевых» цивилизаций Евразии выполняло функции национально-государственной религии, имеющей собственное религиознофилософское, метафизическое учение [2; 3].
Таким образом, начиная с периода возникновения самых ранних форм государственности в Центральной Азии и Алтай-Байкальском регионе, тэнгриан-ство являлось в терминах современной синергетики мощным аттрактором процессов самоорганизации общества, что было обусловлено традиционными представлениями о наличии некоей супранатуральной, метафизической духовной сущности, называемой «тэнгри», «тангра», «тенгери», «кудай-дээр», «Хормуст-тэнгри», «Курбусту», «Корбустан», «Дээр-бурган», «Хайыракан», «Кайракан» и т. д., которая в монотеистической, точнее диалектико-монистической, системе Чингисхана получила обобщенное безличное обозначение, соответствующее западному пониманию религиозного термина «Абсолют» — «Вечное Синее Небо». При этом обилие «имен» Верховного бога не должно служить отрицанием наше- 5
го утверждения о «монистическом» характере тэнгрианства («диалектический монизм») или его «монотеизме», поскольку многие «имена» служили лишь эпитетами этого божества, характеризуя, например, такие его атрибуты, как «мудрость» («мазда» — в «Ахура Мазда»), «полнота и совершенство», «абсолютная полнота и беспредельность» («хор» — в «Хор-Мазд»), «милосердие», «милостивый» («хайр» — в «Хайыракан»).
Поэтому в традиционных обществах тюрко-монгольских народов Центральной части Евразии в добуддийский период вся совокупность ценностей, ценностных ориентаций, «направленностей», т. е. векторов социальной активности, стереотипов и нормативных моделей поведения, так или иначе связывалась с волей и контролирующими функциями «Духовного Неба». Со способностью к программированию и метапрограммированию В. Р. Фельдман связывал и такое специфическое качество тэнгрианской цивилизации, как ее «проективность», оказавшей глубокое влияние на «сугубую проективность» так называемого «евразийства» — особого философского и общественно-политического течения русской мысли, сложившегося в начале ХХ в. в процессе (и в результате) анализа характерных особенностей Российско-Евразийской цивилизации [3].
Тэнгрианство как фактор объединения монгольских племен
Наиболее ярким и наглядным графическим изображением идеи единства и целостности бытия, т. е. символом «Единого» (тув. чангыс; бур.-монг. ган-са//ганц — букв. «один-единственный»), в тэнгрианской символике служила пустая округлая сфера (или просто круг с точкой в середине), которая отражает очень архаические представления об «Изначальной Пустоте» как о первичной стадии эволюции мироздания или об изначальном состоянии всего сущего (и «не-сущего»), из которого затем зарождаются и Хаос и Космос, как две противоположные и вместе с тем взаимодополняющие тенденции к дезорганизации и самоорганизации. Сам пустотный круг мог символизировать и Небо, и Солнце, но одновременно и беспредельность, вечность, бесконечность и неисчерпаемость Универсума, а точка — наличие у него энергетического центра.
Социорегулятивные функции тэнгрианства детерминировались в первую очередь тем, что «Духовное Небо» воспринималось как всеобщий безличный или, точнее, надличностный морально-нравственный «категорический императив», проявляющийся в виде «индивидуальной судьбы» конкретной личности (или группы людей, например, этноса) в ее земной жизни (бур.-монг. «хуби-заяа»; тюркск.-тув. «салым-чаяан», «салым-чол»), который одновременно можно интерпретировать и как индивидуальный «личный путь» (ср. иранск. хварна), сливающийся с Космическим путем, представляющим собой универсальный закон бытия, функционирования и структурной организации Вселенной. Поэтому мы считаем, что традиционное западное определение этого учения как «религия» не совсем точно характеризует его суть, и гораздо точнее его следует квалифицировать в терминах восточных цивилизаций как «духовный путь» Человека и Вселенной, и в данном конкретном случае — как Тэнгрийн Заяа, а учитывая, что сущность Тэнгри есть Свет (подразумевается, что Белый свет как Светоносное благотворное начало), то можно добавить и такую дефиницию этого Учения и Пути, как Сагаан Заяа.
Список литературы Программирование и метапрограммирование в тэнгрианстве и открытом мировоззрении
- Аюпов Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Алматы, 2012. 263 с.
- Фельдман В. Р. Идеология в социально-исторической динамике: монография. Кызыл: Изд-во Тув. гос. ун-та, 2015. 325 с.
- Абаев Н. В., Фельдман В. Р. Евразийский проект и будущее России // Вестник Бурятского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2015. Вып. 2. С. 10-14.
- Фельдман В. Р., Абаев Н. В. Сложность и самоорганизация: философско- методологический анализ // Вестник Бурятского государственного университета. 2016. Вып. 1. С. 18-22.