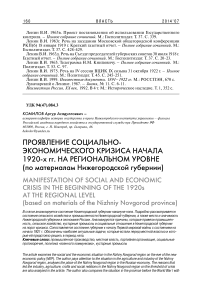Проявление социально-экономического кризиса начала 1920-х гг. на региональном уровне (по материалам Нижегородской губернии)
Автор: Комилов Артур Асадуллоевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 7, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется состояние Нижегородской губернии накануне нэпа. Подробно рассматривается состояние сельского хозяйства и промышленности Нижегородской губернии, а также место и значимость Нижегородской губернии в экономике России. Анализируются причины, которые привели промышленность, сельское хозяйство, кустарные промыслы и социальные отношения в Нижегородской губернии на порог кризиса. Сопоставляется состояние губернии к началу Первой мировой войны с состоянием на начало 1921 г. Обозначены наиболее актуальные задачи, которые встали перед местной властью и которые ей предстояло решить в период нэпа.
Промышленное производство, местная власть, партийная организация, социальные противоречия, политика "военного коммунизма", кустарные промыслы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167535
IDR: 170167535
Текст научной статьи Проявление социально-экономического кризиса начала 1920-х гг. на региональном уровне (по материалам Нижегородской губернии)
The article examines the social and the economic situation in the Nizhny Novgorod region on the eve of the new economic policy (NEP). The author pays attention to the situation in the agriculture and industry of the Nizhny Novgorod region, analyses the place of the Nizhny Novgorod region in the Russian economy. The reasons that led the industry, agriculture, crafts and social relations in the Nizhny Novgorod region on the threshold of crisis are also analyzed in the article. The author also compares the situation in the province before the World War I with the social and the economical situation in the region at the beginning of 1921. The most urgent tasks that should be solved by the local authority during the period of the NEP are also examined by the author.
В переходные, пореформенные и кризисные периоды вся полнота актуальных проблем и противоречий особо отчетливо проявляется на местном уровне. Избирая пути их преодоления, центральная власть в такой огромной стране, как Россия, направляет на места некие усредненные, обобщенные указания, нередко без учета особенностей каждого конкретного региона. Но именно от глубокого понимания этих особенностей, сильных и слабых сторон региона зависит исход того или иного государственного стратегического решения. Невозможно в огромной стране, в которой только отдельные губернии (области) по своим территориальным размерам могут сравниться с ведущими европейскими государствами, выработать универсальный механизм, эффективно подходящий для каждого региона. Только местные власти, понимая исторический опыт и видя уникальные черты своего региона, способны в полном объеме использовать его потенциал и определить наиболее эффективные пути выхода из кризиса.
К марту 1921 г. промышленность России находилась в состоянии полной разрухи. Общий ущерб, причиненный России за годы двух войн и интервенции, по неполным данным, составил более 76 544,87 млн золотых рублей 1 . Национальный доход сократился почти в 2,75 раза по сравнению с 1913 г., промышленное производство сократилось до 7 раз [Генкина 1962: 48]. Большинство фабрик и заводов не работали, а предприятия, продолжавшие функционировать, в несколько раз сократили объемы производства по сравнению с довоенным временем. От производства было оторвано свыше 1 млн. рабочих [Гимпельсон 1974: 81]. Производительность труда в промышленности опустилась до 1/6 довоенных показателей 2 . Удельный вес России в мировом промышленном производстве снизился с 2,6% в 1913 г. до 0,5% в 1921 [Каторгин 1971: 22].
Сельское хозяйство России также переживало не лучшие времена. В 1920 г. посевные площади по стране сократились по сравнению с 1913 г. на 25%, а производство хлеба – на 50% [Серебряков, Белянцев 1967: 4]. В начале 1921 г. валовой сбор зерновых культур сократился до 67%, а поголовье скота до 70,8% довоенного уровня 3 .
Острота проблем в разных частях России была различной, но особую опасность представлял кризис в регионах, игравших ключевую роль в экономике страны. Одним из таких регионов была Нижегородская губерния.
Нижегородская губерния была одной из крупнейших в России: ее общая площадь составляла 51 252 кв. км, она обладала громадными лесными массивами, обширными торфяниками и залежами железных руд в Выксунском уезде (правда, невысокого качества) [Нижегородская местная промышленность…1925: 24]. Почва в большей части малоплодородна, но это компенсировалось громадными лесными массивами, что позволяло активно развиваться деревообрабатывающей промышленности и различным промыслам.
Регион был важным транспортным узлом: он располагался на слиянии важнейших водных магистралей – Волги и Оки; по его территории проходили крупные железнодорожные пути, соединяющие Нижний Новгород с Москвой, Севером и Уралом.
До военных лет 1914–1918 гг. Нижегородская губерния занимала одно из первых мест в Европейской части России в судостроении, транспортном машиностроении, лесодобывающей, кожевенно-обувной, швейной и мукомольной промышленности. В 1913 г. в ней насчитывалось более 400 цензовых промышленных предприятий. На каждое предприятие в среднем приходилось около 100 рабочих 4 .
В ходе Первой мировой войны на территорию Нижегородской губернии из за ее чрезвычайно выгодного географического положения был эвакуирован ряд крупных промышленных предприятий: завод «Красная Этна» (эвакуирован из Риги), завод «Двигатель революции» (бывший «Фельзер», эвакуирован из Риги в 1915 г.), завод «Красный молот», возникший из эвакуированного из Риги завода по изготовлению ковочных изделий, завод «Металлист» (бывший «Отто Эрбе», эвакуирован из Риги в 1915 г.) и др.
Во время Гражданской войны именно территория Нижегородской губернии становится опорным военностратегическим и промышленным пунктом, сыгравшим важную роль в ее исходе. Но к началу 1920-х гг. территория, не пострадавшая в ходе военных действий 1914–1918 гг., принявшая эвакуированные промышленные предприятия, практически исчерпала свой потенциал и пребывала в глубоком кризисе, затронувшем все стороны социальной, экономической и политической жизни.
С приходом к власти большевиков крупные и средние промышленные предприятия Нижегородской губернии были национализированы. Но к 1920 г. ряд национализированных предприятий за неимением сырья и топлива простаивал. В этот период промышленность Нижегородской губернии давала лишь 23% продукции по сравнению с довоенным уровнем. Из 1 700 промышленных предприятий работали только 411, заметно снизив объем выпускаемой продукции [Серебряков, Белянцев 1967: 4]. Серьезно сократилось и общее число цензовых предприятий по губернии. Если в 1913 г. в губернии насчитывалось 410 цензовых предприятий, то в 1920 г. их осталось только 304 (сокращение на 26%), а численность рабочих на них сократилась с 40 322 до 18 242 (на 55%) [История города Горького 1971: 331]. За вторую половину 1920 г. Сормовский завод изготовил всего 4 паровоза, хотя до войны в среднем изготавливал по 15 паровозов в месяц [Очерки истории Горьковской…1966: 79]. Выработка продукции на одного рабочего уменьшилась с 2 081 руб. в 1913 г. до 504 руб. в 1920 г. [Годы великого строительства 1967: 25].
Выксунский промышленный район в 1920 г. давал лишь 1/5 промышленной продукции от уровня довоенных годов. Молитовская фабрика «Красный
Октябрь» дала в 1920 г. только 7% продукции по сравнению с 1913 г. Кожевенное производство составило всего 6%, выработка кирпича – 12% довоенного уровня [Очерки истории Горьковской.. 1966: 79]. Крупные промышленные предприятия Нижнего Новгорода, Выксы, Кулебак в связи с военными событиями 1918– 1921 г. были переключены на производство бронепоездов, танков, пушек, снарядов и взрывчатых материалов, снаряжение и ремонт судов Волжской военной флотилии [Годы великого строительства 1967: 23-24]. К началу 1921 г. в губернии почти полностью прекратилось снабжение сырьем и продовольствием многих предприятий.
На порядок сократилось число рабочих, занятых в промышленном производстве – часть была призвана в ряды Красной армии, часть в поисках пропитания уходили в деревню или занималась кустарничеством. Традиционные нижегородские кустарные промыслы практически пришли в упадок.
В губернии, как и в стране в целом, назревал топливный кризис, вызванный нехваткой топлива, уменьшением выпуска продукции заводов и износом транспортных средств.
Сельское хозяйство Нижегородской губернии к концу 1920 г. было уже не в состоянии обеспечить город продовольствием, а промышленность – сырьем. Резко сократились посевные площади – с 1 334 891 га в 1913 г. до 903 198 га в 1921 г. (почти на 33%)1. В основе столь серьезного сокращения посевных площадей и их запустения лежали объективные причины, характерные для всего сельского хозяйства России того периода: отвлечение на фронты Первой мировой и Гражданской войн огромного числа мужского населения, что означало потерю рабочих рук, уменьшение поголовья рабочего скота, износ сельскохозяйственного оборудования и его полное отсутствие, понижение урожайности в связи с засухой, дробность крестьянских хозяйств, низкий уровень сельскохозяйственных знаний, малая землеустроенность в губернии, нарушение нормальных связей между горо- дом и деревней, политика «военного коммунизма». Если до войны сельхоз-кооперация в Нижегородской губернии получила широкое развитие (54% всех крестьянских хозяйств губернии было охвачено только кредитной кооперацией), то к началу 1921 г. кооперации в деревне практически не существовало [Грехова 2011: 190].
В 1920 г. более 45% крестьянских хозяйств не имели рабочего скота, а около 28% – коров. Поголовье лошадей по сравнению с 1913 г. уменьшилось более чем на треть, коров – в 27 раз (с 9 619 000 до 355 106), овец – в 2,45 раза, свиней – более чем в 3 раза 1 . В южных уездах Нижегородской губернии ситуация обстояла еще хуже.
Слабо крестьянские хозяйства были снабжены и средствами производства: катастрофически не хватало плугов, борон, сеялок, жнеек, веялок, молотилок и сортировок. На всю Нижегородскую область насчитывалось всего 13 тракторов 2 .
Стоит отметить, что сельскохозяйственные трудности в Нижегородской губернии возникли задолго до прихода к власти большевиков. Еще до Первой мировой войны крестьянским хозяйствам катастрофически не хватало яровых семян, только в 1912 г. в них нуждались 53% крестьян губернии [Годы великого строительства 1967: 11]. Нехватка рабочего скота также являлась актуальной проблемой.
Экономические проблемы в регионе, как и в стране в целом, к началу 1920-х гг. породили социальные и политические проблемы. Не обошли стороной Нижегородскую губернию антиправительственные выступления крестьян, возмущенных бедственным положением, некомпетентностью отдельных представителей местной власти, запретом торговли и продразверсткой.
Впоследствии негативное влияние продразверстки в послевоенное время и грубые ошибки отдельных членов партии по отношению к крестьянству признал секретарь Нижегородского губкоба РКП(б) А.И. Микоян: «…подходы к крестьянству в новых условиях, так как поступающие с мест сведения показывают, что не всеми товарищами усвоен курс нашей политики, в результате чего на местах сплошь и рядом допускаются непозволительные ошибки в отношении к крестьянству, препятствующие нашей основной задаче – соглашения с крестьянством… разверстка, являясь легким способом продзаготовок, не останавливала развала сельскохозяйственного производства, методами своего проведения уничтожила всякий хозяйственный стимул, побудитель у крестьянина к расширению и улучшению его хозяйства»3. Наиболее крупные крестьянские выступления были отмечены в Лукояновском, Ардатовском, Варнавинском уездах. В октябре 1920 г. произошли волнения и среди красноармейцев нижегородского гарнизона из-за плохого обеспечения обмундированием и продовольствием. Недовольство перекинулись и на отдельных представителей рабочего класса. Волна забастовок прокатилась среди рабочих завода «Теплоход», Выксунского металлургического завода и кожевенных предприятий Богородска. В забастовке молитов-ских грузчиков участвовало около 3 тыс. чел. [Серебряков, Белянцев 1967: 5].
Сложными в регионе были и отношении власти с духовенством. По данным информационной сводки НижгубЧК от 4 ноября 1920 г., духовенство Нижегородского и Лукояновского уездов в целом держало нейтралитет, воздерживаясь от открытой антисоветской агитации, а духовенство Макарьевского, Васильсурского, Павловского, Семеновского уездов враждебно относилось к советской власти и вело открытую агитацию, поддерживая контрреволюционные настроения 4 . Против контрреволюционно настроенных священнослужителей, активно ведущих пропагандистскую деятельность, возбуждались уголовные дела.
За годы Гражданской войны ослабли силы и влияние правящей партии в регионе, страдающей нехваткой опытных кадров. Губернская партийная организация состояла из 12 уездных комитетов, которые объединяли 63 райкома партии с 364 партийными ячейками и 5 городских райкомов с 9 подрайкомами и 207 партийными ячейками. Парторганизация Нижнего Новгорода составляла около 40% состава губернской партийной организации [История города Горького 1971: 332].
Большинство коммунистов в разгар войны были призваны в ряды Красной армии. Особенно заметное ослабление отмечалось в непромышленных районах. По Балахинскому району отсев коммунистов составил 30%, по Воскресенскому – 44%, по Васильсурскому – 40%, по Княгининскому –38%, поСеменовскому – 50% [Серебряков, Белянцев 1967: 5].
Но и в рабочих районах парторганизации были малочисленными. На Сормовском заводе из 8 114 рабочих было всего 172 коммуниста, на Выксунском – 80 коммунистов, что составляло 1,37% общего числа рабочих, на Кулебакском – 75 коммунистов из 3 830 рабочих, на Ташинском (Первомайском) – 23 коммуниста [Серебряков, Белянцев 1967: 6]. Всего же к началу августа 1920 г. в Нижегородской губернской партийной организации РКП(б) числилось 8 696 членов и 340 кандидатов в члены партии. После перерегистрации, прошедшей с 10 августа по 1 сентября, в организации оставалось только 7 713 коммунистов [Серебряков, Белянцев 1967: 5]. Так, Арзамасское политическое бюро в конце 1920 г. сообщило в Нижний Новгород, что заметно упал авторитет многих руководителей и рядовых коммунистов [Очерки истории Арзамаса 1981: 131].
Таким образом, хотя на территории Нижегородской губернии во время Первой мировой и Гражданской войн военные действия не велись, экономическая разруха и социальные противоречия проявились здесь в полном объеме. К началу 1920-х гг. индустриальный потенциал этого региона практически был истощен.
Доставшееся от прежней власти неустроенное и разоренное сельское хозяйство в ходе политики «военного коммунизма», трудности которой усугубились далеко не всегда правомерным характером деятельности местных органов власти, окончательно пришло в упадок. Усугубили положение неурожаи в начале 1920-х гг. Доведенное до отчаяния крестьянство вынуждено было вступить на путь бунтов и восстаний.
Пути разрешения возникших противоречий определила стратегия новой экономической политики, к которой перешла Советская Россия с весны 1921 г. Проведенный в данной статье анализ состояния региона накануне введения нэпа дает представление о степени трудности решения задач, стоящих перед нижегородской властью и всем населением.