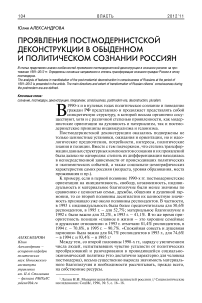Проявления постмодернистской деконструкции в обыденном и политическом сознании россиян
Автор: Александрова Юлия Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ особенностей проявления постмодернистской деконструкции в сознании россиян на протяжении 1991–2012 гг. Определены основные направления и степень трансформации сознания граждан России в эпоху постмодерна.
Сознание, постмодерн, деконструкция, плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170166150
IDR: 170166150
Текст научной статьи Проявления постмодернистской деконструкции в обыденном и политическом сознании россиян
В 1990-х и в нулевых годах политическое сознание и поведение граждан РФ представляло и продолжает представлять собой синкретичную структуру, в которой весьма органично сосу -ществуют, хотя и с различной степенью проявленности, как модер -нистские ориентации на духовность и патернализм, так и постмо-дернистские принципы индивидуализма и гедонизма.
Постмодернистской деконструкции оказались подвержены не только ценностные установки, ожидания и ориентации, но и идео логические предпочтения, потребности, интересы, политические знания и позиции. Вместе с тем подчеркнем, что степень трансфор -мации данных структурных компонентов сознания и их проявлений была далеко не однородна: степень их дифференциации находилась в непосредственной зависимости от происходивших политических и экономических событий, а также социально-демографических характеристик самих россиян (возраста, уровня образования, места проживания и пр.).
АЛЕКСАНДРОВА Юлия
Александровна – аспирант кафедры политических наук Поволжского института управления
К примеру, если в первой половине 1990 -х гг. постмодернистские ориентации на инициативность, свободу, независимость, индиви дуальность и материальное благополучие были менее значимы по сравнению с ценностью семьи, дружбы, общения и душевной гар монии, то со второй половины десятилетия их ценностную значи мость признавало уже около половины респондентов. В частности, в 1993 г. индивидуальность была более предпочтительна для 50,6% респондентов, в 1995 г. — для 52,7%; материальное благополучие в 1992 г. было важно для 32,2%, в 1993 г. — 41,1%. В то же время при -оритетность позиции «главное в жизни — это хорошие семейные и дружеские отношения» в 1993 г. отмечали 81,4% респондентов, в 1994 г. — 70,8%, в 1995 г. — 90,7%. «Спокойная совесть и душевная гармония» была важна для 84,7% респондентов в 1993 г., для 74,6% - в 1994 г. и 93,4% - в 1995 г.1
Между тем, со второй половины 1990-х гг., наряду с увеличением числа людей, испытывавших чувство усталости от политических преобразований и разочарования в проводившейся социально экономической политике (что достаточно характерно для человека постмодерна), весьма существенно выросла значимость материаль ного благополучия и необходимости рассчитывать, прежде всего, на собственные ресурсы.
Так, если в 1994 г. отсутствие матери -ального достатка ощущали 54% респон -дентов, то в 1998 г. — 80%, в 1999 г. — 68%. Необходимость «твердого заработка и уверенности в завтрашнем дне» в 1994 г. отмечали 55% респондентов, в 1995 г. — 60%, в 1998 г. - 61%, в 1999 г. - 60%. При этом «уверенность в завтрашнем дне» сни -зилась с 6% в 1991 г. до 3% в 1999 г. (что можно рассматривать как подтверждение функционирования в российском обще -стве начала 1990 х гг. постмодернистского принципа ориентации преимущественно на процессы и события настоящего, а не прошлого или будущего)1.
Кроме того, принцип постмодернист -ской двойственности и неоднозначности в политическом сознании россиян на про тяжении 1990 х гг. проявился и в восприя тии происходивших политических собы тий и участии в них, в оценке политиче ских лидеров и их деятельности, работы политических партий и представляемых ими идеологий.
Во - первых, в данный период признание необходимости предоставления гражда нам больших возможностей и форм поли -тического участия граничило с граждан ской пассивностью и бездействием. С одной стороны, почти для 50% респонден тов суть демократии заключалась именно в возможности и праве принимать участие в государственных и общественных делах. С другой стороны, 75% респондентов не имели отношения к процессу урегули рования местных проблем, 78% ни разу не приходили на встречи с политиками, 87% фактически не сотрудничали с поли тическими партиями или отдельными кандидатами. Основная форма прояв-ления интереса к политике заключалась в обсуждении политических событий в кругу друзей (в 1994 г. подобной позиции придерживались 56% респондентов, в 1999 г. — 57%) и в получении политико -новостной информации (в 1994 г. это было характерно для 81%, в 1999 г. — для 82% опрошенных)2.
Во вторых, снижение доверия и инте реса к деятельности политических пар тий происходило в условиях увеличения их числа. С одной стороны, совокупное число партий и объединений, внесенных в избирательные списки на выборах депута тов Государственной Думы I—III созывов, было абсолютным рекордом за 21 летний период существования постсоветской политической системы: в 1993—1999 гг. в парламентских выборах участвовали в совокупности 82 партии и общественных объединения (в 1993 г. — 13, в 1995 г. — 43, в 1999 г. — 26), в состав нижней палаты пар ламента вошли 18 партий и объединений (в 1993 г. — 8, в 1995 г. — 4, в 1999 г. — 6). С другой стороны, к 1998 г. 38% респонден тов «не видели никаких различий между существовавшими в стране партиями», в 1999 г. 54% считали, что «многопартий ность принесла России больше вреда, чем пользы».
В третьих, кризис легитимности инсти тута президентства развивался на фоне поддержки предложенного главой госу дарства политического курса. Так, уро вень доверия главе государства на протя жении 1994—1998 гг. сократился примерно в 3 раза (в 1994 г. он составлял 15—16%, в 1998 г. — менее 5%). Между тем, на фоне столь явного кризиса легитимности даже в 1998—1999 гг. около четверти респонден тов продолжали поддерживать идею необ ходимости продолжения инициированных Ельциным и его командой социально -экономических реформ.
В четвертых, снижение уровня доверия к коммунистической идеологии проис текало в контексте роста неоправданного доверия к демократической индиффе рентности с последующим развитием индифферентности идеологической (уже в 1993 г. важность и значимость какой либо идеологии в жизни общества стала в 2 раза меньше, чем в 1991 г.). В результате к отсутствию понимания различий между политическими партиями постепенно добавилось равнодушие к идеологиям, граничащее с неприязнью (особенно к таким крайним формам идеологических конструктов, как радикальный национа лизм), и соединение в сознании элемен тов либерализма, социал демократизма, консерватизма, национализма, фашизма.
Иными словами, развитие указанных тенденций свидетельствовало о восприим чивости политического сознания россиян к постмодернистской деконструкции, хотя далеко не все нормы постмодерна были приняты россиянами в качестве определяющей основы их поведения. Например, проявление гедонизма и сверхпотреби-тельства — немаловажных черт сознания человека постмодерна, определяющих принципы его поведения, — в 1990-х гг. можно было наблюдать лишь у представи -телей наиболее материально обеспечен ных слоев, в то время как для абсолютного большинства граждан они были не харак терны.
Впрочем, в нулевых годах данный пробел в значительной степени был восполнен. В отличие от идеологической индифферент-ности (по отношению к традиционным идеологиям), сохранившейся и в нуле -вых годах, «идеология потребления» была принята значительной частью россий ского социума в качестве определяющей модели поведения, тем более что матери альное благосостояние россиян в 2000 г., несколько улучшившись по сравнению с 1990 г., вполне этому способствовало.
Соответственно трансформировались и показатели достатка. С одной стороны, снизилась ценностная значимость таких жизнеобеспечивающих структур, как «возможность дать детям хорошее образо вание» (в 2006 г. этот показатель был значим для 37%, в 2010 г. — для 28%), «наличие автомобиля» (27% и 21% соответственно) и «возможность получения качественного медицинского обслуживания» (21% и 18% соответственно). С другой стороны, уве личилась важность покупки загородного дома (с 12% до 22%), недвижимости за рубежом (с 20% до 30%), поездки за гра ницу (с 23% до 28%), посещения дорогих ресторанов, концертов и спектаклей (с 6% до 8%) 1 .
Процесс организации досуга стал более насыщенным, включающим в себя все больше разнообразных форм и способов отдыха, выбор которых зависит от инди видуальных предпочтений и возможно стей. Впрочем, наметившаяся в 1990 х гг. постмодернистская ориентация на соб ственные возможности, силы и ресурсы проявилась в рамках не только организа ции досугового времени, но и жизненного пространства россиян в целом, в том числе в определении собственной позиции во взаимоотношениях с политической вла стью.
По прежнему сокращается число граж дан, интересующихся политикой (в 2001 г. к таковым относили себя 43% респон -дентов, в 2007 г. — 38%), в противовес увеличению доли людей, не проявляю щих интереса к данной области деятель ности (в 2001 г. - 54%, в 2007 г. - 59%). Аналогичным образом изменяется и пока -затель политической активности россиян: все меньшее число людей принимает уча стие не только в избирательных кампа ниях, но и в общественной деятельности, сосредоточивая свое внимание на семье и достижении профессионального успеха.
К примеру, если в 2004 г. в выборах уча -ствовало 55% респондентов, то в 2011 г. -только 27%. Совокупная доля принимав -ших участие в митингах, демонстрациях, пикетах, забастовках, а также в работе пар тий в 2004 г. составила 9%, в 2011 г. — 1%. В коллективном благоустройстве придомо вой территории, в местном общественном самоуправлении, в деятельности обще ственных и профсоюзных организаций, религиозных общин в общей сложности были задействованы 25% респондентов в 2004 г. и 12% — в 2011 г.2
Хотя с определенной периодичностью (преимущественно в контексте проведения избирательных кампаний) и наблюдается некоторое усиление общественно политической активно сти россиян, в целом оно не способно изменить общий вектор интенсифика ции аполитичных настроений россиян. Причем интересно отметить, что раз личного рода мероприятия (шествия, митинги, демонстрации, народные гуляния и пр.), число которых увеличи вается в указанные периоды всплеска гражданской активности, организуемые с целью критики проводимого полити ческого курса, выражения неодобре ния, а нередко и требований отставки высших должностных лиц, сопровожда ются неизменным ростом числа сторон ников премьер министра и президента и признанием последнего на протяже нии длительного времени Человеком года.
Тем не менее вопросы внутренней политики государства вызывают интерес и чувство сопричастности к ней у все меньшего числа россиян, внимание которых нередко сосредоточивается либо на международных отношениях и международной политике (особенно явно это прослеживается в контексте современного финансовоэкономического кризиса), либо на проблемах, непосредственно касающихся жизненного пространства человека, что вполне соответствует «духу» постмодерна. Сообразно с теми же постмодернистскими принципами большинство россиян (50–60%) не готовы жертвовать личными интересами ради нужд и потребностей общества или государства (допускают подобную возможность и необходимость около 35–40%).
М ежду тем, несмотря на признание главенства индивидуальных интересов по сравнению с общественными, готовы брать на себя ответственность за их реализацию меньше половины респондентов, возлагая данную обязанность на активно критикуемых первых лиц государства.
Безусловно, на протяжении 1991– 2012 гг. степень проявления данных противоположно направленных тенденций была различна: она увеличивалась в одни периоды и уменьшалась в другие в зависимости от происходивших политических событий или применяемых манипулятивных технологий. Отличался уровень восприятия постмодернистских ориентаций и в зависимости от возрастных и социальных показателей: ориентация на индивидуальные силы, интересы и возможности, так же как и более высокая общественно-политическая активность, в наибольшей степени характерна для младшего и среднего поколения, для материально более обеспеченных людей, проживающих преимущественно в крупных городах. В то же время для старшего поколения и социально менее защищенных слоев населения выше значимость ценностей справедливости, порядка и патернализма.
Однако, несмотря на различную степень проявления постмодернистской деконструкции в сознании россиян, за 21 год, на наш взгляд, оно смогло принять основополагающие принципы эпохи постмодерна – диалектичность и вариативность, проявившиеся как в процессе ранжирования индивидуальных ценностей, так и в отношении идеологической и политической сфер, ставших также пространством реализации принципов постмодерна.