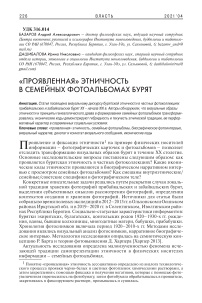«Проявленная» этничность в семейных фотоальбомах бурят
Автор: Базаров Андрей Александрович, Дашибалова Ирина Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена визуальному дискурсу бурятской этничности в частных фотоколлекциях прибайкальских и забайкальских бурят ХХ - начала ХХI в. Авторы обнаружили, что визуальные образы этничности и принципы генеалогического древа в формировании семейных фотоальбомов трансформировались: иконические коды демонстрируют гибридность и текучесть этнической традиции, ее перформативный характер в современных социальных условиях.
«проявленная» этничность, семейные фотоальбомы, биографическое фотоинтервью, визуальный нарратив, денотат и коннотат визуального сообщения, иконические коды
Короткий адрес: https://sciup.org/170177344
IDR: 170177344 | УДК: 316.014 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8409
Текст научной статьи «Проявленная» этничность в семейных фотоальбомах бурят
П роявление и фиксация этничности1 на примере физических носителей информации – фотографических карточек и фотоальбомов – позволяет отследить трансформацию визуальных образов бурят в течение XX столетия. Основные исследовательские вопросы поставлены следующим образом: как проявляется бурятская этничность в частных фотоколлекциях? Какие икони-ческие коды этничности проявляются в биографическом нарративном интервью с просмотром семейных фотоальбомов? Как смешаны внутриэтнические/ семейные/советские специфики в фотографическом теле?
Конкретные описательные задачи решались путем раскрытия случая локальной традиции хранения фотографий прибайкальских и забайкальских бурят, выделения субъективных смыслов рассмотрения фотографий, определения контекстов создания и хранения фотографий. Источники для статьи были собраны во время полевых экспедиций в 2012–2013 гг. в Ольхонском и Осинском районах Иркутской обл. и в 2019–2020 гг. в Селенгинском, Иволгинском районах Республики Бурятия. Социально-статусные характеристики информантов: бурятки эхиритских, булагатских, цонгольских родов 1920–1930-х гг. рождения, вдовы, бывшие колхозницы, многодетные матери, бабушки, прабабушки. Хронология фотоснимков включала период 1920–2010-х гг. Методами исследования являлись визуальный анализ фотоснимков, нарративное биографическое интервью. Методология исследования опиралась на семиотическую концепцию Р. Барта и теорию фотовыявления Д. Харпера [Харпер 2013].
Актуальность исследования определена малоизученностью феномена исчезающей традиции самопрезентации этничности в физических носителях информаци и – семейных фотоальбомах.
Феномен «проявленной» этничности в фотографиях выражается в видимой и невидимой трехслойности: в иконических кодах (этнический костюм, этническое жилище, этнические обряды); в иерархическом расположении снимков на страницах альбомов; а также в фоновой информации, сопровождающей биографический рассказ владельцев о фотографии.
Изучая этничность в семейных фотоальбомах информантов, мы обращаем внимание на диахронический порядок проявления бурятских иконических кодов как этнорегиональных маркеров. Сравнительный анализ различных фотоальбомов показал, что в период 1920–1950-х гг. бурятские женщины одеты в традиционные костюмы, в основном это бабушки информантов. В частности, информант О.А. Табинаева из п. Еланцы Ольхонского района Иркутской обл. демонстрирует фотографию 1925 г., на которой изображены отец, мать, бабушка (мать отца), сестра отца и она в грудном возрасте. Они сидят на фоне деревянной юрты ( гэр ), на стене которой повешен ковер. Взрослые члены семьи одеты в самодельные пальто с воротником из бархата ( баймга дэгэл ), зимние круглые меховые шапочки эхиритских бурят ( халюун малгай ), на ногах – меховые гутулы . Бабушка одета в женский эхиритский костюм: шелковый халат ( палаати ) с рукавами, отороченными мехом выдры, длинную безрукавку ( хубайси ), украшенную серебряными монетами, на голове – головной убор в виде тюбетейки ( биизга малгай ), на шее – традиционные нагрудные серебряные украшения: «Я спрашивала у матери: “это что белый халат у бабушки?”, а она мне говорит: “нет, голубой палаати, он так блик на фотографии (черно-белой) дает”». Следующий код – это коллективные обрядовые практики: снимки свадебных ритуалов; в количественном отношении их немного. Так, информант улуса Нарин-Кунта продемонстрировала фотографию 1970-х гг., на которой изображен обряд подготовки женщин рода к свадьбе, несущих приданое невесты – постельные принадлежности ( заhал ). Значимым этническим маркером выступает социальное воспроизводство родственных связей, общинности, фотографии улусников как членов расширенной семьи, двоюродных, троюродных сестер, братьев, племянников, старших членов семьи. Также на фотоснимках запечатлены фрагменты традиционного интерьера: сундуки, утварь, деревянные юрты. В течение XX в. данный ико-нический код проходит несколько этапов своего преобразования. В семейных фотоальбомах этот процесс четко проявлен.
Иной иконический код связан с формой и порядком размещения фотоматериала. В ходе экспедиции были обнаружены разнообразные модели хранения, а следовательно и отношения к семейным фотографиям: фотоальбомы с картонными страницами; в коробках; фотокарточка в рамке, размещенная на стене, книжных полках или в шкафу; баннерный вид (отсканированные и напечатанные на баннере размером во всю стену как аналог генеалогического древа) и, наконец, на почетном месте – хойморе ( гунгарбаа ). Фотоальбомы формировались позже снятых снимков. По признанию их владельцев, они являлись подарком к конкретному событию, о чем свидетельствует подпись дарителя. Ранее же фотографии хранились несистемно – в коробках, в шкафах, комодах. Составление личной коллекции презентирует важные биографические события и предполагает творческое отношение владельца, как минимум – хронологического или иерархического порядка размещения фотоснимков. На практике же линейный порядок – от раннего события к прошлому, последовательное расположение фотографических изображений прародителей, родителей и их потомков – встречается редко. Фотокарточки спутаны по датам их создания, просто вложены в альбомы. И датированы фотографии редко.
В традиционных обществах презентация иерархии, воспроизводящая структуру многопоколенной семьи, является особым социальным механизмом. Обязателен порядок представленности по нисходящей от прародителей к родителей и детям. В настоящее время мы наблюдаем нарушение патриархальной преемственности, перевертыш верха и низа, где первичны дети и выражен детоцентризм. Изображения детей доминируют в фотографических практиках, нередко они расположены в начале альбома. Как отмечает французский социолог Д. Эрвье-Леже, в современных обществах выражен императив непосредственно происходящего, и все меньше проявляется коллективная память, которая консолидирует группу [Hevieu-Léger 1999: 48].
Неявная этничность проявляется как фоновое знание, как нарративное пространство, не отраженное визуально в снимках советского периода. Данный слой сопровождается авторским комментарием на бурятском языке, описанием семейно-родственных связей, расширенной семьи, родословной, описанием ситуаций межпоколенного взаимодействия, названий местностей и личных имен. Повествование, включающее просмотр фотографий, имеет эмоциональный характер, информант погружается в переживание своей юности.
Фотографии, несмотря на свой выразительный визуальный язык, не могут говорить, они требуют расшифровки. Поэтому частные фотографии, оставаясь ценным материалом фиксации ушедшей социальной реальности, главным образом служат источником, биографического интервью, погружая нас в нарративное пространство этнической идентичности. Фотография, таким образом, воссоздает социальную реальность, сама как вещь является ее частью, а при ее рассматривании информант одновременно выступает субъектом снимка и зрителем [Брекнер 2007: 15].
В ходе биографического интервью постоянно возникала дилемма различения советской и этнической идентичности. Информанты демонстрировали прочный, сцементированный дуализм данных идентичностей. В соответствии с методологией Р. Барта, фотографическое изображение имеет денотат и кон-нотат [Барт 1989: 303]. В процессе сравнения разных альбомов выявлено денотативное содержание снимков, которое отражало доминирующие советские практики изображения телесности – прически, одежда и распространенные массовые жанры фотографий: советские праздничные демонстрации, отдых на курорте, школьные, студенческие фотографии. Но неявной этничностью в этих снимках выступают ассоциации и эмоциональные переживания информантов, являющиеся в данном случае коннотатом визуального сообщения. Приведем пример. На снимке изображены мужчины и женщины – жители с. Анга Ольхонского района Иркутской обл. Они сидят на траве, одеты в повседневную летнюю одежду 1950-х гг. По фотографии невозможно определить контент образа, если бы не устный комментарий владельца: «это мы сурхарбанили, на речке фотографировались». Реплика владельца, таким образом, позволяет установить время и характеристики проведения традиционного бурятского праздника, проводимого после посевных работ, со сбором родичей, спортивными состязаниями – тайлганам, сурхарбанам, обычно в конце июня. В советское время он приобретал характер спортивного праздника с национальными играми внутри сельских районов и между ними1.
В фотографическом теле этнической группы запечатлена смешанная идентичность, активное формирование которой пришлось на 1960-е гг. в связи с массовым распространением фотоаппаратов и увеличением числа фотографий в семейных альбомах [Бурдье 2014: 38]. Мы наблюдаем контраст текучей идентичности. В частности, на снимке супругов, выполненном в фотосалоне, муж внешне ассимилирован доминирующей городской культурой: шляпа, костюм, ручка в кармане; супруга же одета в женский традиционный костюм бурят булагатских родов: на ней нарядная длиннополая безрукавка, шапочка, серебряные украшения, традиционная прическа в виде двух кос. Тем самым налицо переходное состояние этничности: полузавершенная традиция и соответствие стандартам европейской моды послевоенного времени. Оба сдержанны в жестах, спокойны. Мужчина внешне преодолел порог бурятской культуры, перешел на западный образец. Данная фотография выражает одновременно внешнюю активную ассимиляцию доминирующей культурой и сохранность архаики в женской телесности. Это отражается в т.ч. в сопровождающем комментарии: «это – председатель колхоза»1.
В дальнейшем, в 1970–1980-е гг., происходит визуальное закрепление советской традиции и исчезновение традиционных маркеров этнической идентичности. Начиная с 1970-х гг. этнический костюм либо «вымывается», т.е. исчезает с фотографий, либо используется как симулякр, сценическая или парадная бутафория. На данном этапе механизм воспроизводства этнических визуальных фотообразов стал требовать дополнительного стимулирования. Искусственность этнического фотообраза формирует ряд актов: стилизацию, копирование, консервацию и т.п. В частности, информант из п. Еланцы указывает: «…костюм сшила, ходила на ансамбль. Я им говорю [участникам фольклорного ансамбля с. Анга]: “Вы неправильно шьете, у меня старинная мода”. Моя подружка собирала старые костюмы в Черноруде, выкройки сняла, где порвано, где рвано, выброшенные, и мы выкройки по ним сняли, так сшили. Родители, бабушка носили такую бурятскую одежду, а я начала на ансамбль надевать». Информант из с. Мольта Осинского района Иркутской обл. показала несколько фотографий фольклорного ансамбля с постановочными обрядами камлания, исполнения ехоора на сцене окружного Дома культуры. Таким образом, генетическая память о предках, которые надевали аутентичную одежду, синхронизировалась в фестивальном формате этничности, востребованном в культурных проектах региональной власти.
В ходе интервью информанты четко фиксируют локальную самоидентификацию – к какому роду они относятся, в какой местности снято. Например, «мой отец родом из улуса, в котором родился шаман Барнашка»2. Вся передающаяся информация четко фиксирует на визуальных примерах из семейного фотоальбома «проявление» этничности.
В результате рассмотренные в статье фотоматериалы из частных фотоархивов фрагментарны в анализе визуализации бурятской этничности, но в силу своей типичности они структурируются как представление об изменении бурятской телесности [Bernstein 2013]. Этничность проявляет себя в дискурсе, в представлении себя до 1950-х гг. через другие идентификационные символы. В дальнейшем она уходит в дуализм бурятского и советского, размывается в коллективной памяти и конструируется в ходе воспоминаний об утраченном. Исчезнувшая, «вымытая» этническая идентичность в фотоальбомах к концу 1980-х гг. получает перформативное изменение с 2010-х гг. и представляет новую самопрезентацию внутриэтнических групп бурят. «Проявленная»
этничность выражается в подчеркнутом интересе ее носителей к деталям костюма и соблюдении его канонов, его ношении в праздничном и повседневном вариантах и во многих других аспектах этнической презентации. Тем не менее смена аналоговых форматов фотографий на цифровые практически прекращает практику их хранения в семейных фотоальбомах, как и наличия самих фотоальбомов, и потому востребовано раскрытие ускользающих многослойных значений семейных фотоколлекций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00068 А.
Список литературы «Проявленная» этничность в семейных фотоальбомах бурят
- Барт Р. 1989. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс. 616 c.
- Брекнер Р. 2007. Изображенное тело. Методика анализа фотографии. - Интеракция. Интервью. Интерпретация. № 4. С. 13-32.
- Бурдье П. 2014. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии. М.: Праксис. 456 с.
- Харпер Д. 2013. Фотовыявление: истоки, развитие, темы и формы. - Социологический журнал. № 2. С. 16-42.
- Bernstein A. 2013. Religious Bodies Politic: Rituals of Sovereignty in Buryat Buddhism. Chicago: University of Chicago Press. 280 p.
- Hervieu-Léger D. 1999. Le pélerine et le converti: la religion en movement. Paris: Flammarion. 300 p.