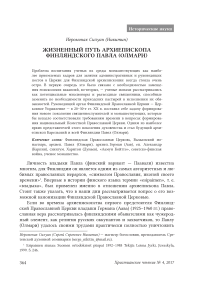"Проповеди для заключенных" 1790 года как первое руководство для тюремных капелланов
Автор: Васильева Светлана Анатольевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена уникальному историческому источнику - изданию викария графства Дарем (Англия) Джона Брюстера «Проповеди для заключенных. С включением молитв, рекомендованных для узников одиночного заключения» (1790). Автор статьи анализирует содержание проповедей в контексте пенитенциарного реформирования в Великобритании, начатого в связи с принятием тюремного статута 1779 года. Основным содержанием тюремных реформ стал переход от практики карательного уголовного наказания к исправительному тюремному заключению. Основным средством исправления признавалась религия, что привело к созданию в Великобритании исторически первого института тюремных капелланов. Работа Дж. Брюстера - предположительно самое раннее печатное издание такого рода. Лейтмотивом его проповедей стал призыв воспринимать заключение как возможность пересмотреть свою жизнь, осознать глубину греха прошлой порочной жизни, покаяться и получить возможность прощения перед лицом Господа с одной стороны, и возвращения в общество честным гражданином - с другой
Великобритания xviii века, английский протестан- тизм, тюремные капелланы, пенитенциарные реформы, проповеди для заключенных
Короткий адрес: https://sciup.org/140223445
IDR: 140223445
Текст научной статьи "Проповеди для заключенных" 1790 года как первое руководство для тюремных капелланов
Личность владыки Павла (финский вариант — Паавали) известна многим, для Финляндии он является одним из самых авторитетных и любимых православных иерархов, «символом Православия, иконой своего времени»1. Впервые в истории финского языка термин «еsipaimen», т. е. «владыка», был применен именно в отношении архиепископа Павла. Стоит также указать, что в наши дни рассматривается вопрос о его возможной канонизации Финляндской Православной Церковью.
Если во времена архиепископства первого предстоятеля Финляндской Православной Церкви владыки Германа (Аава) (1925-1960 гг.) православная вера рассматривалась финляндскими обывателями как чужеродный элемент, как религия русских оккупантов и захватчиков, то Павлу (Олмари) удалось своими трудами практически полностью уничтожить
эти ложные стереотипы мышления. «Самым значительным достижением архиепископа Паавали можно считать то, что ему удалось приблизить финскую православную духовность к первоосновам раннего христианства. Он отошел от славянских традиций православного богослужения и “национальных” элементов, возникших в начальный период независимости, и вернулся к традициям единого христианского мира»2, — читаем мы в его биографии.
Будущий предстоятель Финляндской Православной Церкви, в миру Георгий (финский вариант — Юрье) Гусев, родился 28 августа (по н. ст.) 1914 г. в Санкт-Петербурге. Родители его — сотрудник железнодорожного ведомства коллежский асессор Алвиан (Айви) Иванович Гусев и Анна Павловна Водоменская — в 1919 г. переселились в Выборг, где сменили фамилию на Олмари. Крещен будущий владыка был 21 октября 1914 г. в Воскресенской церкви, что при Петроградской больнице св. вмч. Пантелеимона. Его восприемниками при купели были «сын коллежского секретаря Павел Павлович Водоменский и вдова коллежского секретаря Евдокия Исидоровна Водоменская»3, т. е. бабушка и дядя по материнской линии.
Вначале Юрье обучался в классическом лицее Выборга, но в 1932 г. после окончания 5-го класса из-за смерти отца учебу оставил4. В том же году он поступил в православную духовную семинарию в г. Сортавала (Сердоболь), которую окончил в 1936 г., после чего прошел срочную службу в армии.
Известно, что уже в первой половине 1917 г. часть русских священ -нослужителей (9 священников, 3 диакона)5, служивших на территории ставшей независимой Финляндии, покинула свои приходы и уехала в Россию. Возникший острый вопрос о замещении образовавшихся вакансий привел к тому, что 26 сентября 1917 г. Финляндский Сенат-Эду-скунта постановил учредить в Сортавале богословские курсы6. Позднее, в 1918 г., данные курсы были преобразованы в духовную семинарию с шестилетней программой обучения.
Православная духовная семинария в Сортавале унаследовала богословские и духовные традиции российских духовных школ. Это объяснялось тем, что учредители и первые преподаватели семинарии, в первую очередь протоиереи Сергий Окулов, Сергий Солнцев и Николай Валмо (как и большинство тогдашних клириков Финляндской Православной Церкви), сами являлись выпускниками Санкт-Петербургских духовных семинарии и академии7.
С самого начала семинария имела статус государственного учебного заведения и получала полную финансовую поддержку от Министерства образования. Также она находилась под контролем как со стороны Церковного Управления, так и государственных органов. Для того, чтобы минимизировать русское влияние на православную семинарию, правительство оставило за собой право принимать решения об административной организации учреждения, сражу же введя преподавание исключительно на финском языке8. В настоящее время финскими историками отмечается, что «Сортавальская семинария процветала в течение около двадцати лет. Она стала центром национального возрождения для Карельского и Финского православия»9.
Во время обучения в семинарии Юрье Олмари руководил студенческим семинарским хором и работал заместителем регента православного Петропавловского кафедрального собора в Сортавале. Также, уже обучаясь в семинарии, будущий владыка начал переводить на финский язык славянские церковные песнопения и произведения русских композиторов.
Тогдашний ректор семинарии протоиерей Николай Валмо (Варфоломеев) устраивал для семинаристов во время летних каникул поездки по православным монастырям Финляндии, которые, по-видимому, оказали самое большое значение на духовное формирование Юрье. Известно, что два лета он провел на Валааме, а одно лето на Коневце10.
«По не вполне понятным причинам Олмари решил после окончания семинарии в конце 1937 г. уйти в монастырь»11, — пишет г-н Теуво Лайтила в биографии архиепископа Павла. Есть упоминания, что на молодого семинариста особенно сильное впечатление произвел схиигумен Иоанн (Алексеев), в то время настоятель Предтеченского скита на Валааме12. В своем же прошении от 15 марта 1938 г. о принятии в братию Юрье написал весьма лаконично: «Чувствуя призвание к монастырской жизни, покорнейше прошу принять меня членом братства Валаамского монастыря»13.
Так как молодому послушнику не было 25 лет (необходимый возраст для пострижения по Инструкции для монастырей ФПЦ), то правлению монастыря пришлось просить Церковное Управление об исключении из правил. В качестве объяснения своего намерения игумен Харитон (Дунаев) ссылался на острую необходимость в финноязычном иеромонахе, окормлявшем бы карельских и финских паломников14. Просьба была удовлетворена, и 2 октября 1938 г. в нижнем соборном храме монастыря послушник Юрье Олмари был пострижен в монашество с именем Павел (в честь первоверховного апостола Павла)15. Молодому монаху неслучайно было дано имя апостола: по мысли тогдашнего предстоятеля Финляндской Православной Церкви архиепископа Германа (Аава), миссионерство должно было стать важнейшим делом для будущего владыки.
По ходатайству настоятеля вскоре последовало и рукоположение монаха Павла архиепископом Германом в иеродиаконы (16 октября 1938 г. в Иоанно-Богословском храме, Сортавала) и иеромонахи (6 ноября 1938 г. в Свято-Никольском храме, Йоэнсуу)16.
Духовником будущего владыки был иеромонах Фотий, заведующий художественными мастерскими, а после ризничий17. «Чудный это человек. Носитель истинно валаамского духа — работник и скромный. Тихий и видом, и голосом, мягкий манерами, спокойным взором ласковых глаз обладает он, овевает благостью и манит к себе в уютную живописную мастерскую или ароматную одухотворенную келью, где много раз мы беседовали за самоваром»18, — писал о нем валаамский насельник иеромонах Афанасий (Нечаев).
В монастыре иеромонах Павел исполнял послушание учителя в монастырской школе, певчего, регента финноязычного хора послушников, а также подготовил к изданию на финском языке статьи о жизни монастыря, опубликованные в журнале «Подвижник». Также он переводил на финский язык и богослужебные книги (трехканонник, акафист Благовещению Пресвятой Богородице)19.
Будучи архиепископом, Павел (Олмари) всячески пытался сохранить красоту православного богослужения, в том числе за счет церковного пения. Несомненно, это было связано с его постоянным участием в стройных и торжественных службах на Старом Валааме. Владыка был прекрасно музыкально образован, а через пение пытался приобщить верующих к красоте и глубине Православия. В течение всей своей жизни он и регентовал на многочисленных церковных праздниках, и работал с певцами и хормейстерами, и преподавал церковное пение в Куопиоской духовной семинарии.
В августе 1965 г. состоялся очередной Собор ФПЦ, который должен был рассмотреть более 154 вопросов, в том числе вопрос о внесении национального элемента (карельского и финского) в церковное пение. Инициатива эта принадлежала лично архиепископу Павлу, который сам и занимался музыкальным переложением и в 1964 г. составил новый нотный сборник, т. н. muoviliturgia — «Пластмассовая литургия» (она так названа по причине издания в виде брошюры с пластиковой обложкой)20. «Данная новая литургическая традиция, в которой подчеркивалось значение Евхаристии, а мелодии стали более просты-ми»21, сразу получила наименование «Литургия Павла». Как отмечается современными финскими исследователями, целью данного сборника было дать прихожанам возможность более активно участвовать в бого служении за счет упрощения н апевов22.
Стоит отметить, что в это же время ряд духовных произведений был создан владыкой Павлом и на основе традиционных северо-российских или знаменных песнопений, и на основе византийских. В большинстве же случаев уклон делался на сохранение распевов Валаамского монастыря, близких и любимых архиепископом еще с молодости. В итоге в 1970 г. Павел (Олмари) составил новый нотный сборник песнопений Божественной литургии — «Евхаристия»23.
Протопресвитер Александр Шмеман, близко знавший архиепископа, писал: «И, как говорит сам владыка, он, по всей вероятности, прожил бы на Валааме всю свою жизнь, если бы между Финляндией и СССР не вспыхнула в 1939 г. роковая Зимняя война, которая заставила валаамских жителей эвакуироваться в центральную Финляндию»24.
В октябре 1939 г. иеромонах Павел был призван на военную службу в качестве военного священника. Сам владыка в своих «Воспоминаниях о последних днях Валаама» писал, что повестка пришла 12 октября ему и другому финскому иеромонаху, Петру (Йоухки), как раз во время монастырской трапезы. По благословению игумена им пришлось обрить бороды и постричь волосы, первое время они исполняли обязанности провиантмейстера и каптенармуса25. Вскоре пришел приказ о переводе иеромонахов в военные священники. Иеромонах Павел окормлял мирных жителей острова Мантсинсаари, «объезжал действовавшие на Валаамском архипелаге небольшие подразделения и проводил службы как для православных, так и для лютеран»26.
Когда в декабре 1939 г. была объявлена полная эвакуация монастыря, ему пришлось в ней активно участвовать. «Перед нами стояла задача укрыть в надежном от бомбардировок и огня месте монастырские цен-ности»27, — писал владыка. Вместе с двумя лютеранскими капелланами, иеромонахом Симфорианом (Матвеевым), монахом Ираклием и инженером Владимиром Кудрявцевым он 12 марта 1940 г. перенес в подвал Преображенского собора церковную утварь, облачения и частично монастырскую библиотеку. На следующий день с помощью финских солдат спрятанные вещи были погружены на военные автомобили и вывезены в Лахденпохью и далее вглубь Финляндии. Эвакуация монастыря с острова Валаам стала одним из самых трудных периодов жизни архиепископа Павла, до самых последних своих дней он тосковал по Старому Валааму, а Новый Валаам для него таким же домом не стал. В Хейнявеси будущий владыка появлялся лишь на короткое время, но в братии Валаамского монастыря он числился до переписи 1969 г.28
С началом военных действий Финляндии против СССР в 1941 г. он был призван в армию для несения службы военного священника в оккупированном финнами Олонецком районе, подведомственном Военному управлению Восточной Карелии. Там он познакомился с местным населением, которое сначала сторонилось безбородых и одетых в военную форму православных священников.
Стоит отметить, что православным капелланам было запрещено проводить крещение и миропомазание местного населения, а крещения, проводимые лютеранскими военными пасторами, официально считались обращением в лютеранство29. Иеромонах Павел и другие православные капелланы с этим согласиться не могли и объявили, что будут по-прежнему крестить всех желающих.
Ситуация вновь усугубилась, когда стало известно, что лютеранское духовенство стало заниматься прозелитизмом: предлагая сладости, деньги, одежду, они заманивали православных детей в лютеранские воскресные школы. Православные капелланы составили неофициальное письмо с протестом, которое попало в Центральную разведывательную полицию, принявшую решение удалить православных священнослужителей с территории военных действий. В январе 1942 г. иеромонах Павел был назначен священником для военнопленных. Есть упоминания, что в тот же период он некоторое время служил в Крестовоздвижен-ской церкви г. Петрозаводска30. Кроме него были отстранены священник Вилхо Хоккинен и иеромонах Петр (Йоухки).
Некоторое время он был преподавателем Закона Божьего на учительских курсах в Ямся, организованных для слушателей из Восточной Карелии, а осенью 1943 г. был возвращен капелланом на фронт:
в звании младшего сержанта он стал капелланом 6-го армейского корпуса. Этому способствовало издание главнокомандующим финской армией К. Г.Э. Маннергеймом указа от 24 апреля 1942 г. «Об организации религиозной жизни на территории Восточной Карелии», согласно которому националистически настроенные лютеранские священники были отстранены от работы с местным населением31.
Иеромонах Павел считал, что Восточная Карелия является «естественной» сферой деятельности Финляндской Православной Церкви. В целях укрепления православной духовной жизни отец Павел совместно с другими священниками, работавшими в Карелии, весной 1944 г. основал Православное братство Валаамского монастыря в Хейнявеси. Основной задачей Братства было укрепление православного духа ее членов и популяризация монастырской жизни. Братство начало издавать журнал «Hehkuva Hiillos» («Пылающие угли»), выходящий четыре раза в год (сейчас он выходит один раз в год). Владыка Павел был ответственным редактором данного издания более двадцати лет. Также он редактировал все первые издания Братства: «Православный песенник» (1944), «Православная Церковь сегодня» (1945, перевод на финский язык) и собственную книгу «Любим ли я Тобой» (1945)32.
С 1944 г. его знание святоотеческого наследия нашло отражение в серии публикаций в официальном печатном органе Финляндской Православной Церкви «Аамун койтто» под названием «Путь святого». В 1945 г. на него было возложено послушание главного редактора Совета по изданию православной литературы и ответственного редактора журнала «Аамун койтто», что дало ему возможность представить читателям сокровища церковного духовного наследия, с которым он познакомился еще на Старом Валааме.
Помимо участия в издательской работе, иеромонах Павел занимался и переводом: он выполнил перевод на финский язык «Древнего патерика» (1954 г.), фрагменты которого печатались в «Аамун койтто» в течение нескольких лет. В 1953–1954 гг. отец Павел был также и председателем Издательского комитета православной литературы.
После окончания войны, с 1944 по 1946 г., иеромонах Павел исполнял обязанности регента в приходе Йоэнсуу, на Новый Валаам в Паппини-емми он уже не вернулся. Этому есть несколько объяснений: ужасная теснота в монастыре и его неожиданное возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии в 1945 г. В то время будущий архиепископ, по-видимому, испытал духовный кризис и в конце 1946 г. перешел на должность бухгалтера (конторского служащего) в акционерное общество «Савитеоллисуус» в Мюллюкоски (завод «Глиняная промышленность Мюллюкоски»), где, как следует из его послужного списка, также «был духовным пастырем переселенцев»33. По некоторым сведениям, он даже подумывал об отказе от монашества и о женитьбе34.
Однако любовь к валаамской монашеской традиции и чувство обязанности ее сохранять владыка Павел пронес через всю свою жизнь. В 1955 г. он был избран викарным епископом в помощь престарелому архиепископу Герману (Ааву), а в 1960 г. стал вторым предстоятелем ФПЦ.
Если Сортавальская духовная семинария так или иначе позволяла готовить необходимые кадры для занятия священнических и псаломщических вакансий в приходах двух епархий — Карельской и Выборгской, то вопрос с замещением архиерейских вакансий ФПЦ стоял и продолжает стоять достаточно остро. Так, всем хорошо известно избрание на Сортавальское викариатство гражданина Эстонии протоиерея Германа Аава в 1922 г. Из местного духовенства подходящих вдовых кандидатов не имелось, а насельники Валаамского, Коневского и Печенгского монастырей не рассматривались по причине отсутствия у них финляндского гражданства.
Так, вопрос о замещении Выборгской епархии и вовсе длился 10 лет: с 1925-го, когда архиепископ Серафим (Лукьянов) был отправлен на пенсию, по июнь 1935 г., когда на очередном Церковном Соборе прошли выборы нового епископа, которым стал незадолго перед тем овдовевший протоиерей Александр Петрович Карпин, настоятель Аннантехдасского прихода в местечке Суоярви на границе Финляндской Карелии и России.
Причину столь долгого вдовства Выборгской епархии исследователи понимают по-разному. Некоторые считают, что здесь был замешан протоиерей Сергий Солнцев, который всячески старался не допустить усиления власти епископов в управлении ФПЦ. Так, например, иеросхимонах
Михаил (Попов) в письме сщмч. Иоанну (Поммеру) от 23 июня / 6 июля 1927 г. сообщал, что место викария «занял главный двигатель и инициатор всех церковных реформ сердобольский протоиерей Сергий Солн-цев»35. Некоторые исследователи подозревают отца Сергия и в имеющемся материальном интересе, связанном с исполнением функции временного руководства данной епархии36.
Кроме того, существует предположение, что просто не имелось подходящей кандидатуры на епископскую должность. Современный исследователь истории Православия в Финляндии и Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Т. И. Шевченко утверждает, что данное утверждение безосновательно, «по крайне мере 60–80 валаамских монахов в это время соответствовали критериям кандидатов в епископский сан»37. С этим вряд ли можно согласиться, так как необходимому условию — знанию финского или шведского языка — соответствовал лишь один иеромонах Исаакий (Трофимов), ингерманландец по происхождению. Его кандидатура мало кого бы устроила, да и, по всей вероятности, он сам, переживавший в то время серьезный духовный кризис, не согласился бы на епископское служение.
Об этом можно узнать из письма иеромонаха Иеронима (Григорьева) и монаха Иувиана (Красноперова), адресованного митрополиту Ленинградскому Григорию (Чукову). В нем сообщается, что о. Исаакий в 1930 г. подал архиепископу Герману официальное прошение о снятии с него монашества и священства с целью последующего брака на некоей лю-теранке38. Вмешательство игумена Харитона (Дунаева) способствовало пересмотру им своего решения, но, хотя в дальнейшем отец Исаакий нес послушание наместника Валаамского монастыря, прежнего авторитета среди братии обители и духовенства ФПЦ он уже не имел.
Хотя архиепископ Павел имел только семинарское образование, его научные и переводческие труды уже вскоре были по справедливости оценены современниками. Так, в 1967 г. он получил звание почетного доктора богословия университета Хельсинки и звание почетного профессора Ленинградской духовной академии39. Первое награждение было историческим — «первый раз в истории богословского факультета Хельсинкского университета человек, не принадлежащий к протестантской Церкви, получил это высшее академическое оказание внимания»40.
Конечно, это наглядно свидетельствовало о серьезном изменении отношений между лютеранской и Православной Церквями. Владыка участвовал в торжественной промоции: ему был вручен фиолетовый докторский цилиндр, диплом и Библия. На торжественном вечере благодарственную речь от имени новых докторов говорил архиепископ Павел: «Стараюсь выполнить поверенное мне дело и выразить наше чувство в данный момент, я думаю, что не ошибаюсь, если скажу, что мы чувствуем сейчас глубокое удовлетворение и смиренную благодарность за то, что во время, когда секуляризация всей цивилизации старается сузить область души, мы можем провести праздник истинно свободной души при помощи Божией и при все соединяющей Его силе. В быстром течении мировых событий и этот академический праздник останется новостью только одного дня, но сохранится достойной страницей в истории Хельсинкского университета, а также подтверждением о братских сношениях двух государственных Церквей»41.
Павел (Олмари) стал первым епископом в истории ФПЦ, постриженным в монашество. С тех пор эта общеправославная традиция сохраняется как обязательная в Финляндской архиепископии. Став епископом, Павел (Олмари) продолжил вести монашеский аскетический образ жизни. Это было обусловлено его валаамским прошлым, где он имел общение со многими подвижниками.
Аскеза архиепископа Павла выражалась в первую очередь в любви к тишине и уединению, а также в постоянном посте. Так, известно, что уже с лета 1964 г. все свое свободное время владыка проводил в одиночестве на своей даче — небольшом острове посередине озера в 40 км от Куопио. Иногда на этот остров он приглашал своих гостей. Так, в июне того же года благочинный приходов Московской Патриархии в Хельсинки прот. Евгений Амбарцумов писал, что архиепископ «сам топил баню, угощал нас, парился вместе с нами, катал на моторной лодке»42. Протопресвитер А. Шмеман в своем дневнике за сентябрь
1975 г. оставил следующие записи: «Потом финская баня с владыкой и о. Кириллом (Гундяевым). Когда мы втроем сидели голые и парились, я подумал: вот бы снять эту фотографию и послать кому-нибудь! То-то был бы фурор… Удивительно, как такой человек, как арх. Павел, который весь светел, весь светится миром и святостью, продолжает так же светиться и голым. То, что грубо, смешно, неприлично в “плотяном человеке”, в “духовном” — преображено! Я был потрясен этим настоящим для себя откровением…»43
Владыка Павел любил беседовать с гостями и о своем режиме дня и методе питания44. Ленинградский протоиерей Игорь Ранне, посетив владыку в его резиденции 15 марта 1972 г., оставил такие воспоминания: «Архиепископ Павел встретил меня очень любезно и сердечно, угощал салатами из всевозможных трав, прочел лекцию о вреде мясной пищи, сахара, который также вреден для сердца, о чае, кофе и особенно шоколаде »45. В другой раз отцу Игорю помимо обеда из «всевозможных овощей и трав» была предложена каша из овсяной шелухи с изюмом46. Со слов переводчика владыки Елены Борисовны Павинской известно, что архиепископ сам выращивал необходимые травы для своего стола, часто на подоконнике в своей резиденции.
Как будучи монахом на старом Валааме, так и уже находясь в сане архиепископа, Павел (Олмари) совмещал интеллектуальные труды с физическими. У него никогда не было ни домохозяйки, ни келейника, а уже с 1969 г. известно, что он спокойно обходился и без шофера, сам водил машину и отвозил на ней своих гостей47. Из увлечений владыки Павла особо стоит отметить рыболовство, иногда на удочку, а и иногда и сетью.
Помимо составления музыкальных сборников, он продолжал заниматься переводческими трудами (с русского и церковнославянского на финский), а выйдя в 1987 г. на пенсию, для нужд духовного воспитания финляндской паствы издал две свои знаменитые книги: «Как мы веруем» и «Праздник веры».
Скончался владыка Павел 2 декабря 1988 г. и по завещанию был погребен 8 декабря на кладбище Ново-Валаамского монастыря рядом с теми скромными подвижниками, которые для него стали детоводителями и наставниками на всю жизнь48. С его смертью завершилась целая эпоха в жизни Финляндской Православной Церкви.
Список литературы "Проповеди для заключенных" 1790 года как первое руководство для тюремных капелланов
- Приветственное обращение к посетителям сайта епископа Красногорского Иринарха // Официальный информационный ресурс Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. URL: htp://anastasia-uz.ru/index/privetstvennoe_obrashhenie_episkopa_krasnogorskogo_irinarkha/.(дата обращения: 07.12.2016).
- Андреященко Р. А. Пенитенциарная система Англии и Уэльса в XVI-XX вв.:историко-юридическое исследование: диссертация. канд. юр. наук. Екатеринбург, 2006.
- Скоморох О. А. История тюремного служения христианской церкви в связи с пенитенциарными реформами XVIII-XIX вв.//Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2011. Том 12. № 1. С. 240-249.
- Brewster J. Sermons for prisons. To which are added prayers for the useof prisoners in solitary confinement. Stockton: R. Christopher, 1790.
- Memoirs of the public and private life of John Howard, the philanthropist -Compiledfrom His Own Diary in the Possession of His Family/By J. Baldwin Brown. 2nd ed.London, 1823.
- Васильева С. А. «В темнице был, и вы пришли ко мне» (ранняя история пастырского тюремного служения в Англии)//Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. С. 148-153.
- Беседы с заключенными в тюрьмах. 4-е изд. СПб., 1870.