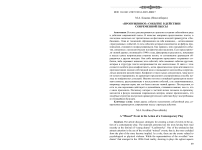"Пропущенное" событие в действии современной пьесы
Автор: Кожина Мария Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются стратегии создания событийного ряда в действии современной пьесы. В качестве материала представлены тексты, в последние несколько лет прочитанные на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Одна из тенденций, обращающих на себя внимание, - использование «пропущенных» событий, то есть событий, которые исключаются из фабулы произведения, становятся подразумеваемыми. Как правило, ими оказываются события, связанные с психологическим или физическим насилием. Если представители «новой драмы», возникшей в 1990-е годы, фиксировали реальность, показывая в пьесах самые неприглядные стороны жизни, то сегодняшние драматурги обращаются к другим методам. Они либо намеренно пропускают «страшные» события, либо скрывают значение этих событий, либо заменяют события другими, которые в структуре текста воспринимаются как аналогичные. В связи с этим создается особого рода конфликтность, когда драматические герои втягиваются в противостояние помимо собственной воли и оказываются неспособны сопротивляться внешним воздействиям. Конфликт в таких пьесах симулятивен, чаще всего он остается неразрешим, но драматурги предлагают альтернативные способы выхода из конфликтных ситуаций. Именно поэтому в новейшей драматургии возникают сюжеты, рассказывающие о последствиях событий, а не заканчивающиеся, например, смертью героя, как это было в пьесах «новой драмы». Последствия, то есть то, как персонажи действуют в дальнейшем, становятся важнее, чем то, что с ними произошло. Поскольку интерес к частной жизни человека по-прежнему находится в фокусе внимания современных авторов, можно предположить, что подобные стратегии построения драматургического действия будут востребованы и в ближайшем будущем.
Новая драма, событие исполнения, событийный ряд, современная драматургия, современная пьеса, структура действия
Короткий адрес: https://sciup.org/149136599
IDR: 149136599 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00037
Текст научной статьи "Пропущенное" событие в действии современной пьесы
Сегодняшняя современная драматургия берет начало от движения «новая драма», которое возникло на рубеже XX XXI вв. Чтобы зафиксировать реальность, драматурги этого направления обратились к событиям жизни маргинального человека. Героями их пьес стали представители «социального дна»: проститутки, наркоманы, уголовники, бомжи, гастарбайтеры и другие, - а в событиях, которые драматурги включали в действие, был «ярко выражен культ эстетической агрессивности, культ насилия, секса и вульгарности, что стало “нравственной нормой жизни”» [Гончарова-Грабовская 2008, 10]. Показательно, что драматурги «новой волны» представляли реальность гипернатуралистично, сосредотачиваясь на самых отвратительных, отталкивающих проявлениях жизни. Например, в «Пластилине» Василия Сигарева реципиент оказывается свидетелем того, как Максим, 14-летний подросток, «перед своей гибелью проходит своеобразную инициацию жертвы» [Богданова 2015, 383]. Ключевым событием инициации становится изнасилование героя, когда он вместе с другом приходит в квартиру бывших уголовников. В пьесе эта сцена представлена звучащими голосами (Голос Голого, Голос Курсанта, Голос Лехи, Голос Максима). Событие в ней не показывается впрямую, но у читателя / зрителя (здесь можно поставить читателя и зрителя в один ряд, учитывая, что драматургический текст, прежде всего, предназначен для исполнения на сцене) складывается впечатление, что действие разворачивается перед ним, так как происходит в настоящем времени. Враждебность «страшного, звериного мира, в котором человек обречен на тотальное одиночество» [Мещанский 2016, 26], провоцирует подростка на то, чтобы проявлять ответную агрессию - так в пьесе создается конфликтность. Ю. Барбой определяет конфликт как «сшибку характеров», причем не в аристотелевском, а в социально-психологическом понимании [Барбой 2008, 140], и этот «социальный» аспект был усвоен представителями «новой драмы». В «Пластилине» Сигарев показывает, что герой не может справиться с персонажами «социального дна»: Максим собирается отомстить преступникам (у
него есть действенный заряд), но оказывается слишком слаб перед жестоким, маскулинным миром. В финале героя убивают, что снова происходит перед читателем / зрителем.
Другой хрестоматийный пример демонстрации насилия - пьеса Ивана Вырыпаева «Июль», написанная как «монолог (поток сознания?) человека, живущего - в силу психического расстройства - вне нравственных норм. Это рассказ убийцы и людоеда о своем путешествии из дома в психушку, путешествии, полном преступлений, мотивы которых тот даже не объясняет» [Якубова 2010, 46]. В пьесе герой в подробностях рассказывает о том, как он убивает и пожирает всех, кто встречается ему на пути: соседа, собаку, священника, медсестру и наконец Бога, которого видит в углу больничной палаты. Драматург настаивает на том, что эти события случились в прошлом (стали предметом рассказывания), но поскольку он подробно воссоздает работу «сломанного» сознания, показывает этапы развития «болезни», возникает иллюзия, что действие происходит «здесь и сейчас», которая необходима «для сопричастия к событию (курсив Н.Д. Тамарченко), то есть для того, чтобы реакция на это событие у героя и зрителя была одновременной, хотя и не идентичной» [Тамарченко 2004, 311]. Получается, что воспринимающий включается в действие, представляя, как в текущем моменте возникают страшные картины, описанные в тексте, то есть переносит их из прошлого в настоящее. Таким образом, можно говорить, что с развитием «новой драмы» возникли две основные стратегии конструирования событий. События либо разворачиваются перед читателем / зрителем, либо проговариваются - подробно описываются в репликах или монологах персонажей. Этим драматурги показывают, что ужасное перестает восприниматься как нечто ошеломляющее, а становится привычным, будничным, прочно укоренившимся в жизни человека.
Что же происходит в драматургии последних лет? Сегодня тема насилия остается в фокусе внимания драматургов. Рефлексия по этому поводу усиливается из-за того, что обостряются отношения между человеком и властью, человеком и институциями, в конечном счете, человеком и человеком (если представления другого человека о жизни отличаются), но стратегии репрезентации конфликтных ситуаций меняются. Отметим, что драматургия конца 2010-х - начала 2020-х гг. еще не стала предметом изучения. Регулярно появляются обзорные статьи о драматургических конкурсах, но научных исследований сегодня практически нет. Конечно, сложно говорить о новых тенденциях, не имея возможности посмотреть на процесс с временной дистанции. Однако, мы считаем, что уже сейчас намечаются направления развития драматургического письма, которые будут проверены в ближайшем будущем. Например, в пьесах «За белым кроликом» Марии Огневой, «Расскажи мне про Гренландию» Лены Петуховой и Сергея Азеева, «Свинья в стене» Елены Щетининой (все они были прочитаны на фестивале молодой драматургии «Любимовка» с 2018 по 2020 гг.) обнаруживается, что теперь, вместо того, чтобы эпатировать публику натуралистичными сценами, как это делали авторы «новой драмы», драматурги нередко используют противоположный подход. Они пропускают эпизоды, в которых могли быть изображены сцены унижений, убийств, сексуального принуждения и т.д. (хотя пьесы, где такие сцены возникают, тоже есть, но их стало намного меньше). Так появляются «пропущенные» события, которые не совершаются в присутствии читателя / зрителя, а исчезают из фабульной цепочки, становятся подразумеваемым. Драматурги предоставляют возможность реципиенту самостоятельно достроить событийный ряд, заполнив образовавшийся пробел (или пробелы) сообразно с логикой действия (авторы оставляют в тексте подсказки, помогающие восстановить те события, которые они имели в виду).
Ю. Подковырни предлагает разделять в современной драматургии исполняемые события (события из жизни героев) и события исполнения (способы изображения этих событий) [Подковырни 2014, 211]. Подобное разделение возникает по аналогии с теми понятиями, которые использует М. Бахтин для анализа эпического произведения: «<.„> перед нами два события - событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели)» [Бахтин 1975, 403-404]. В. Федоров замечает, что событие исполнения показывают персонажи-исполнители, роль которых в драматическом тексте такая же, как функция повествователя в эпическом произведении [Федоров 1984, 149]. Соответственно, фабула понимается как цепочка исполняемых событий, а сюжетный план как способ их передачи, вместе они образуют художественное целое драматургического текста. В разговоре о «пропущенном» событии стоит иметь в виду, что «пропущенным» мы считаем исполняемое событие (фабульное событие) - событие из жизни героев, которое не выражено в действии пьесы, но прочитывается в сюжете. Драматург может либо намеренно опускать это событие («Расскажи мне про Гренландию»), либо скрывать значение события («Свинья в стене»), либо заменять событие другим, которое в структуре текста воспринимается как аналогичное («За белым кроликом»).
Рассматривая пьесы представителей «новой драмы», И. Болотян и С. Лавлинский пишут о том, что конфликтные ситуации задаются четырьмя основными вариантами: столкновением героя с самим собой как с Другим (прошлым, настоящим, будущим), столкновением героя с социальными Другими; конфликтом героя с самим собой как культурным Другим и / или Другими как носителями «иных», «чужих» ценностей, или же столкновением героя с Другим как с «чужим», когда в качестве «чужого» выступает Высшее Начало, Бог и т.д. [Болотян, Лавлинский 2010, 42]. Если брать эту классификацию за точку отсчета (а нам кажется, что она актуальна и для драматургии последних нескольких лет), то в выбранных пьесах мы будем наблюдать развитие конфликта между героем и социальным(и) другим(и). В пьесе «Расскажи мне про Гренландию» Лены Петуховой и Сергея Азеева социальными другими по отношению к молодой учительнице Катерине Ивановне, которая приезжает из Москвы в деревню в Хабаровском крае, становятся ее ученики. Героиня сталкивается с персона-

жами, живущими вне каких-либо норм и правил поведения, поскольку взрослые либо не обращают на них внимания (учителя), либо проявляют репрессивные методы воспитания (родители). Насилие - это то, с чем дети в этой деревне и в множестве подобных деревень сталкиваются с раннего возраста, они не знают другой модели поведения и в случае чего готовы, вместе или по отдельности, напасть на слабого. Многие из них растут в неполных семьях, иметь отца среди них редкость, поэтому «свой» для них -это человек, у которого нет семьи. Убивая маленького сына Катерины Ивановны, подростки мстят за то, что благодаря ей отец одного из учеников оказался в тюрьме, потому что жестоко избил свою жену (они убеждены, что лучше такая семья, чем никакой). Кроме того, ученики думают, что несчастье уравняет их с Катериной Ивановной, и она станет такой же, как они, - частью варварского мира, до которого цивилизация не дошла из-за его исторической, культурной и географической оторванности. Авторы не показывают, как происходит убийство (это и есть «пропущенное» событие), Катерина Ивановна возвращается из школы, когда все уже случилось. Читатель / зритель понимает, что ученики совершили преступление, и здесь неважно, каким образом они это сделали. Насилие в пьесе рассматривается как явление «вообще», уродующее сознание и раскалывающее жизнь человека, поэтому авторы уходят от конкретики, предоставляя возможность воспринимающему при необходимости достроить событийный ряд.
Елена Щетинина в пьесе «Свинья в стене» показывает, как мир ребенка заполняется страшными фантазиями, и эти фантазии внезапно оживают. Драматург расслаивает действие на несколько временных пластов так, что на сцене одновременно присутствуют маленькая Лиза (пяти и девяти лет), участвующая в игровых ситуациях, и взрослая Лиза, которая комментирует события, случившиеся с ней в детстве, а в финале, когда прошедшие события доходят до настоящего, уже взрослая героиня включается в действие. После того как на своем пятом дне рождения Лиза слышит анекдот про то, что розетка - это замурованный в стене Пятачок, к ней ночью, когда родителей нет дома (они работают посменно), начинает приходить огромная свинья, с жесткой липкой шерстью и зловонным запахом изо рта. Интересно, что и в этом случае свинья воспринимается «социальным другим», так как ее действия не встраиваются в представления о норме. Свинья угрожает Лизе, что съест ее родителей, если девочка не будет выполнять ее желания, и героине приходится скормить ей свой ужин, отдать найденного котенка, измять приготовленную школьную форму. На самом деле, в этом нет ничего фантастического, всему находится логичное объяснение, но драматург дает его только в развязке действия. До этого же момента читатель / зритель становится свидетелем сцен запугивания и унижения, а когда свинья собирается наказать Лизу, повторяя «Плохая девочка. Плохая девочка. Плохая девочка» и «Надо наказать. Надо наказать. Надо наказать», складывается впечатление, что речь идет о сексуальном насилии. Именно этот момент воспринимается как «пропущенное» собы- тие, поскольку автор не объясняет, каким было (и было ли) наказание. В структуре действия образуется «пустое пространство», которое реципиент может не просто заполнить самостоятельно, но и определить направление развития событий, выбирая из нескольких вариантов, что же на самом деле произошло. Так уже в тексте создается эффект множественности трактовок.
В пьесе Марии Огневой «За белым кроликом» социальным другим становится водитель машины, в которую садятся Алиса-1 и Алиса-2. С развитием действия читатель / зритель понимает, что он изнасиловал и убил героинь, а после ему удалось избежать наказания. Как и в предыдущих случаях, сцены насилия и убийства пропускаются драматургом. Мария Огнева показывает преступление через аналогию. Героини бегут за Белым кроликом, прыгают в кроличью нору и падают-падают-падают. Продолжительное падение и зависание в воздухе представляются как образ того, что с ними происходит (неслучайно героини названы Алиса-1 и Алиса-2). Но конфликтная ситуация этим не исчерпывается, в нее втягиваются другие персонажи. Матери девочек Анна и Марина и их подруга Оля переживают последствия случившегося, именно они становятся драматическими героями (проходят «драматургическую арку» - меняются к финалу пьесы). Монтажная композиция позволяет сопоставить события, случившиеся до убийства, и события, происходящие после убийства, - расследование, которое проводят матери. Драматург задает несколько векторов развития действия: из прошлого в настоящее, из настоящего в прошлое, из настоящего в будущее. При этом, в прошлом (во время путешествия Алисы-1 и Алисы-2) автор меняет угол зрения, показывая девочек то внутри игровой ситуации, когда действие разворачивается «здесь и сейчас» - в настоящем, то снаружи, когда они наблюдают за собой и рассказывают о том, что с ними случилось, ощущая это как прошедшее. Такой способ репрезентации помогает полностью восстановить «пропущенные» события, у адресата не возникает возможности трактовать их по-другому, а значит не возникает расхождений с замыслом автора.
Обратим внимание на то, что герои в выбранных пьесах лишены выбора. Ситуации, в которых они оказываются, возникают помимо их воли, они сами предпочли бы, чтобы эти события никогда не происходили. Здесь видится принципиальное отличие от пьес, где возникают «несостоявшие -ся» (или «несовершенные») события, которые становятся результатом выбора персонажей. Например, вокруг «несостоявшегося» события строится действие пьесы Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Герой предпочитает не совершать поступок, ничего не менять в своей жизни, поэтому выбрасывает посылку, которую принесли ему загадочные курьеры. Если понимать под событием «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1970, 282], то Сережа намеренно отказывается от инициации, а значит утрачивает «драматические» функции - не становится героем. Нечто похожее происходит в пьесе «Золото» Екатерины Тимофеевой, когда в финале персонажи, которые на протяжении действия
планируют переезд, приходят к тому, что они никогда не уедут из города Сибай, несмотря на то, что он не приспособлен для жизни (в воздухе - отравляющий сероводород). Драматург показывает, что человек в структуре пьесы чувствует себя частью окружающего мира, и если экологическая ситуация в пьесе остается нерешенной, то и судьба персонажей тоже не решена. В развязке персонажи лишаются действенного импульса, у них не хватает воли для того, чтобы спасти свою жизнь.
Что касается «пропущенных» событий, то это, как правило, случайные или стихийные события, которые могли произойти, а могли и не произойти. Они встраиваются в сюжет и, как и другие драматические события, становятся результатом «действий не одного, а нескольких лиц и одновременно стечения обстоятельств, случайностей и игры неподвластных человеку сил» [Костелянец 2007, 55]. В каждой пьесе, из тех, что мы выбрали для анализа, драматурги показывают или дают понять, что обстоятельства могли сложиться по-другому. В пьесе «Расскажи мне про Гренландию» альтернативные варианты не проговариваются в тексте, но адресат может выстроить цепочку из нескольких «если бы» - представить события, которые направили бы действие в другую сторону. Так, если бы Катерине Ивановне не нужно было скрываться от преследований после смерти мужа, она не поехала бы в деревню на Дальнем Востоке; если бы она не поехала в деревню, ей не пришлось бы работать с трудными подростками; если бы она не решила помочь одному из них (не отправила бы его отца в тюрьму), ученики не решили бы ей отомстить; если бы они не решили отомстить, ее ребенок остался бы жив. Мария Огнева идет другим путем. В пьесе «За белым кроликом» она вводит возможные варианты развития событий в текст - они проговариваются действующими лицами. Читатель / зритель восстанавливает события вместе с персонажами пьесы Анной, Мариной и Олей, которые пытаются понять, почему девочки (Алиса-1 и Алиса-2) сели в машину к незнакомому человеку. Поскольку каждая героиня испытывает чувство вины и думает, что могла бы помешать случившемуся, в пьесе выстаивается несколько альтернативных вариантов. Например, одна из цепочек выглядит так: если бы Марина накануне не уехала из дома, дочери не надо было бы возвращаться вечером с дачи, чтобы покормить кошку; если бы ей не надо было покормить кошку, она бы осталась на даче до утра и не села бы в машину к незнакомцу; если бы ее подруга решила отпустить ее одну, она (подруга) осталась бы жива, и так далее. В пьесе Елены Щетининой «Свинья в стене» эти механизмы не так очевидны, потому что появление свиньи в жизни героини невозможно объяснить. В финале пьесы становится понятно, что свиньей был дядя Андрей, который жил в соседней квартире, - во встроенном шкафу был проход из его спальни в комнату Лизы. Мотивы его поступков иррациональны - здесь речь идет о сдвинутом сознании, и единственное «если бы», которое применимо в этом случае, может звучать так: если бы дядя Андрей не получал удовольствие от того, что пугает беззащитного ребенка, свинья никогда бы не появилась в жизни Лизы.
Приведенные примеры подтверждают, что персонажи пьес сталкиваются с обстоятельствами, которые не зависят от их стремлений. В связи с этим можно говорить, что в драматургии последних лет складывается особый тип героя. Если герой «новой драмы» оказывал сопротивление окружающему миру (пусть и проигрывал в этом противостоянии), то сегодняшний герой, чаще всего, пассивен. Он включается в конфликтную ситуацию не по своей воле и не находит в себе сил сопротивляться. В текстах, о которых идет речь, конфликт решается по-разному. В пьесе «Расскажи мне про Гренландию» у Катерины Ивановны нет возможности выйти из конфликта, он остается неразрешим. Она уезжает в Москву, меняет сферу деятельности, узнает, что жизнь бывших учеников не сложилась, но все это не может вернуть ей сына. Выход из ситуации показан на примере другого персонажа - Ивана, ученика того же класса, который в убийстве не участвовал, но для него это событие стало поворотным. Он единственный из персонажей пьесы, чья жизнь сложилась удачно, потому что после случившегося он решил вырваться из того мира, в которой вырос, и на это повлияло знакомство с Катериной Ивановной. Как замечает О. Журче-ва, конфликт в современной пьесе только обозначается, но он симуляти-вен: «герой вроде бы вступает во взаимодействие с другими героями, со средой, с миром, но создавшаяся ситуация не имеет продвижения - и это принципиально для “новой новой драмы”» [Журчева 2010, 198]. В пьесе «За белым кроликом», чтобы справиться с ситуацией героини, Анна, Марина и Оля, выбирают разные стратегии поведения и в течение действия отказываются от выбранных моделей. В первой части мы видим, как Анна направляет все силы на то, чтобы убийца был наказан, Марина с трудом заставляет себя подниматься каждый день с кровати, а Оля отказывается от возможного материнства. Во второй части ситуация меняется, Анна отказывается от мести, пытается смириться и устроить свою жизнь, Марина видит свою миссию в том, чтобы доказать вину преступника (хотя понятно, что это уже не произойдет), а Оля решается на рождение ребенка. Драматург показывает, что возможны разные выходы из ситуации, но конфликт остается нерешенным - его невозможно решить (как раз это проявляется в истории Марины, она не выходит из конфликтных отношений, не понимая, что конфликт неразрешим). И только в пьесе «Свинья в стене» происходит по-другому - повзрослевшая Лиза оказывается способна на поступок. Спустя десять лет она врывается в квартиру дяди Андрея, связывает его, забрасывает вещами из шкафа и оставляет умирать, погребенного под свиной «шкурой». Тем самым она спасает маленькую девочку, которая теперь живет в ее бывшей квартире и знает, что ночью, когда дома никого нет, приходит свинья. Но такое поведение для современного героя, скорее, исключение, чем правило.
Симптоматично, что события, связанные с насилием, перестали представляться драматургам чем-то будничным. Авторы вводят их в качестве примеров отклонения от нормы, показывая, как «нормальный» человек сталкивается с человеком (или группой лиц) с «извращенным» или «из- ломанным» сознанием. Именно поэтому в новейшей драматургии возникают сюжеты, рассказывающие о последствиях событий, а не заканчивающиеся, например, смертью героя, как это было в пьесах «новой драмы». Последствия, то есть то, как герои живут дальше, становятся важнее, чем то, страшное, что с ними произошло. Благодаря этому мы можем говорить о разных стратегиях поведения персонажей и наблюдать за тем, как они сдаются после случившегося, находят альтернативные пути или ищут возмездия (последнее для современного героя нетипично). С помощью «пропущенного» события в выбранных пьесах показывается завязка («За белым кроликом»), развитие («Свинья в стене») или кульминация («Расскажи мне про Гренландию») действия. Другими словами, оно встраивается в ряд драматических событий, которые меняют судьбу персонажей в сюжете произведения. «Пропуская» события, драматурги отказываются от натуралистичных изображений: не отталкивают ими реципиента, а, напротив, сильнее включают в происходящее, поскольку ему приходится восстанавливать событийный ряд. В этом проявляются разные подходы в работе автора с аудиторией, так как читатель / зритель может представить, что произошло в пьесе, как это случилось, или выбрать то направление, которое соответствует его картине мира. Надо полагать, что использование «пропущенных» событий, открывающее драматургам многочисленные приемы (и создания действия, и воздействия на реципиента), будет применяться и в будущем.
Список литературы "Пропущенное" событие в действии современной пьесы
- Барбой Ю.М. К теории театра. СПб.: СПбГАТИ, 2008.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. С. 234-407.
- Богданова П. «Новая драма»: модель жертвы // Современные исследования социальных проблем. 2015. № 8 (52). С. 380-389.
- Болотян И.М., Лавлинский С.П. «Новая драма»: опыт типологии // Вестник РГГУ 2010. № 2 (45). С. 35-45.
- Гончарова-Грабовская С.Я. Комедия в русской драматургии конца XX - начала XXI века. М.: Флинта; Наука, 2008.
- Журчева О. Природа конфликта в новейшей драме XXI века // Современная драматургия. 2010. № 4. С. 195-199.
- Костелянец Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы / Сост. и вст. ст. В.И. Максимов, вст. ст. Н.А. Таршис. М.: Совпадение, 2007.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- Мещанский А. Проблема выживания человека как проявление концептуально-содержательной специфики современной «Новой драмы» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (65). С. 25-28.
- Подковырин Ю. Событие исполнения // Современная драматургия. 2014. № 4. С. 211-214.
- Тамарченко Н.Д. Событие «завершения» в драме // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Academia, 2004. С. 309-312.
- Федоров В.В. Поэтический мир драмы // Федоров В.В. О природе поэтической реальности. М.: Советский писатель, 1984. С. 147-179.
- Якубова Н. Культ рассказа. Заметки о поколении 1990-2000-х годов в восточноевропейской режиссуре // Вопросы театра. Proscaenium, 2010. № 1-2. С. 4368.