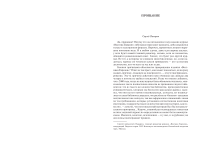Прощание
Бесплатный доступ
ID: 14912053 Короткий адрес: https://sciup.org/14912053
Текст ред. заметки Прощание
Да, прощание! Потому что на пятнадцатом году издания журнал «Вестник Евразии» либо вовсе перестанет выходить, либо сохранится только в электронном формате. Впрочем, вероятность второго варианта ничтожно мала. И в любом случае, даже если журнал уцелеет, у него будет новый главный редактор, сильно, если не полностью, обновится редакционный совет. Значит, это будет уже другой журнал. Не тот, к которому не слишком многочисленные, но, смею надеяться, верные его читатели успели привыкнуть — кто за полтора десятилетия, кто-то всего за год или за два.
Какими причинами объясняется прекращение издания «Вестника Евразии»? Ответ не так прост, как может показаться, если сразу назвать причину, лежащую на поверхности, — отсутствие финансирования. Эта-та причина действительно очевидна как дважды два четыре и потому не требует пояснений. Разве что можно добавить, что с 2000 года, когда на наш журнал была объявлена подписка, максимальное число подписчиков никогда не превышало двухсот абонентов; что из такого же количества библиотек, преимущественно университетских, которым мы бесплатно рассылали журнал, надеясь, что они на него начнут подписываться, за восемь лет подписались от силы библиотек двадцать; что расчёты на «богатых» западных подписчиков тоже лопнули, так как оформление отношений с ними по тем требованиям, которые установила отечественная налоговая инспекция, пожрало бы такое количество времени (которое, как известно, — деньги), что потенциальный выигрыш был бы меньше реального проигрыша… Короче, лишний раз подтвердилась известная истина: научный журнал по определению не может быть самоокупаемым. Имеются, конечно, исключения — и у нас, и за рубежом; но они лишь подтверждают правило.
Сергей Алексеевич Панарин, главный редактор журнала «Вестник Евразии», заведующий Отделом стран СНГ Института востоковедения Российской академии наук, Москва.
Повторюсь: это объяснение лежит на поверхности — и, как всякое поверхностное объяснение, оно недостаточно. Ведь проблема финансирования стояла всегда, начиная с самого первого номера, однако как-то удавалось её решать. Можно сказать и так: в конечном счёте денег на издание нет потому, что нет более у главного редактора некоей нематериальной субстанции, определяемой любым из трёх «иноземных» слов — elan, кураж, драйв — или их примерным отечественным эквивалентом жаргонного происхождения, словом завод (разумеется, употребляемым отнюдь не для обозначения промышленного предприятия). Вот почему исчез он, этот самый завод, коротко не скажешь. Всё же я попытаюсь это сделать; но прежде чем переходить к объяснению, которое, подозреваю, выльется в особый жанр ламентаций журнального главреда, я скажу об этом, прощальном, номере.
В очередной раз его тема определилась в результате соединения случайности и — не побоюсь этого слова — мистической закономерности. Случайность (для журнала, конечно, а не для устроителей мероприятия, о котором речь пойдёт далее) заключалась в том, что меня пригласили на проходившую в конце 2007 года в Италии, в Университете города Бергамо конференцию, посвящённую положению русского языка в Центральной Азии. Пригласили не как редактора, а как одного из докладчиков; но к концу конференции было решено, что её материалы будут напечатаны на русском языке в «Вестнике Евразии». Ну, а потом, как всегда, почти все авторы выступлений тянули с подготовкой своих текстов к публикации — и дотянули до самого последнего номера. А некоторые и к нему не успели...
Когда же я говорю о «мистической закономерности», то имею в виду не раз и не два повторявшееся совпадение. А именно: стоило в редакционном портфеле собраться вместе хотя бы двум тематически близким статьям, — либо специально заказанным, либо обязанным своим появлением какому-то внешнему событию, вроде конференции в Бергамо, — как буквально немедленно в обычном самотёке текстов, поступавших в журнал, так сказать, по личной инициативе живущих в разных городах и друг с другом незнакомых авторов, начинали появляться, а то и преобладать тексты на ту же тему. Будто некий невидимый дирижёр взмахнул палочкой — и вместо разнобоя настраиваемых инструментов зазвучал оркестр. Так и в этот раз, к материалам конференции вполне неожиданно для них самих «подстроились» и Санами Такахаси, в статье которой речь фактически идёт об образовании человеческой души историко-культурным наследием, и Маргарита Булатова, написавшая о дефектах непосредственного инструмента образования — школьных учебниках географии зарубежных стран, и тем более Павел Дятленко, статья которого до такой степени вписывается в проблематику конференции в Бергамо, что, знай о нём её устроители в 2007 году, не исключено, пригласили бы поучаствовать.
Помимо этого основного блока тематически связанных текстов в разделе «Живой голос» напечатан простой и искренний рассказ Лены Великановой о поездке в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Он, конечно, далековат от размышлений о триаде языка, культуры и образования; разве что напоминает о том, что культура слабее физического мира и несёт в себе потенциал самоуничтожения. Наконец, замыкают номер две большие статьи, продолжающие тему второго номера журнала за 2008 год «Миграции и диаспоры в Евразии». Одна была прислана американским исследователем Мэттью Лайтом, тогда какдругая... Другую написал профессор Иркутского университета Виктор Дятлов, впервые напечатавшийся в самом первом, 1995 года, номере нашего журнала; но замечательна она не этим обстоятельством, а сюжетом. Ибо он тот же, что и в давней статье 1995 года. Это возвращение сюжета из первого номера в последний тоже отдаёт мистикой или носит знаковый характер. Так и хочется воскликнуть: с чего начали, тем и закончили!
Вот теперь самое время дать ответ на последнее «почему» — почему иссяк энтузиазм, пропал завод, ушёл кураж и т.п. Потому что свобода рынка в России оказалась более надёжным лекарством от культуры и свободомыслия, чем микстуры Главлита. Потому что зачахла, такдо конца и не прижившись на разделённом на дисциплинарные делянки огороде научной периодики, идея принципиально междисциплинарного и принципиально избегающего теоретизирования журнала «об исторической и современной жизни в пространстве Евразии». Потому что читательскую аудиторию России, столь успешно подымаемой с колен усилиями позднесоветских отпрысков семени Ромодановского, правда жизни, что исторической, что современной, интересует куда меньше, чем мифы о её величии в прошлом и о кознях её врагов — в настоящем (и были бы эти мифы хотя бы красиво сделанными, а то ведь убого всё, убого — Дугин вместо Трубецкого, и вовсе уж Глеб Павловский вместо, ну скажем, Каткова). Потому что ушли из жизни два выдающихся учёных и замечательных человека, которые — каждый по-своему — под держивали во мне желание делать журнал: Дмитрий Раевский и Нурбулат Масанов. Потому что по независящим от меня причинам перестал функционировать журнальный инкубатор подрастающих талантов — общероссийская Школа молодого автора, в значительной мере обеспечивавшая журнал новыми именами, новыми темами и новыми подходам к темам старым.
Могу назвать и другие внешние причины. Но самое главное «потому что» — иного рода; оно в том, как делался журнал. Напоследок мож- но признаться: довольно скоро после выхода первых номеров он из дела коллективного превратился в дело индивидуальное. Какое-то время члены редакционного совета обсуждали отдельные статьи и поставляли авторов, но постепенно и от этих видов деятельности отошли. Нет, мои заместители, Григорий Косач и Наташа Дидковская, внештатные дистанционные редакторы из числа выпускников «школы молодого автора», а также Ольга Сурина и Светлана Кирюхина, вычитывавшие рукопись к вёрстке и саму вёрстку, и моя дочь Даша, переводившая большинство резюме статей с русского языка на английский, очень мне помогли. Но решения, печатать или не печатать ту или иную статью; комплектование номеров «под тему»; составление и перевод на английский содержания каждого номера; шлифовка формы уже прошедших предварительную редакторскую подготовку статей, тем паче статей её не прошедших, особо трудных в силу того, что с формой их авторы, не понимая, что плохо выраженная мысль даже и не мысль вовсе, упорно не дружили; вся переписка с иногородними авторами; обязательная вычитка последней вёрстки; отношения с издательством и отчёты по грантам, на которые журнал издавался, — за всё это отвечал один человек, все перечисленные выше виды работ делались мной. И в итоге бессменный главный редактор просто устал, безмерно устал физически. Шутка ли— полтора десятилетия бороться с ошибками начинающих и уверенным косноязычием маститых! Впрочем, сам виноват, сам выбрал модель авторского журнала — вот и изнемог под её бременем.
Теперь, кажется, сказано всё, остаются невысказанными только благодарности. Огромное спасибо всем моим помощниками и помощницам, упомянутом в предыдущем абзаце. Спасибо Либеральному Фонду им. Фридриха Науманна и Фонду Форда, постоянно оказывавшим журналу финансовую поддержку, — и особая благодарность соответственно Фальку Бомсдорфу и Галине Рахмановой, ставшим настоящими друзьями «Вестника Евразии». Спасибо родному мне Институту востоковедения РАН за моральную поддержку и предоставленную возможность пользоваться его помещениями, когда у журнала в том возникала необходимость. Спасибо издательству «Наталис». Спасибо всем авторам, писавшим для журнала, нередко — не по одному разу. Спасибо и тем в России, странах СНГ, в Западной Европе, США, Индии, Монголии и других странах, кто все эти годы был читателем журнала, неважно, постоянным или эпизодическим. И уж тем более тем, кто ссылался и ссылается на помещённые в журнале статьи.
Спасибо, спасибо вам всем! И— прощайте!