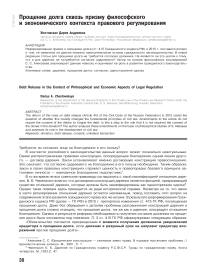Прощение долга сквозь призму философского и экономического контекста правового регулирования
Автор: Жестовская Д.А.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Реформирование правил о прощении долга (ст. 415 Гражданского кодекса РФ) в 2015 г. поставило вопрос о том, не изменила ли данная новелла принципиальные основы гражданского законодательства. В новой редакции статьи для прощения долга не требуется согласия должника. Не является ли это шагом к тому, что и для дарения не потребуется согласия одаряемого? Автор на основе философских исследований С. С. Алексеева анализирует данную новеллу и оценивает ее роль в развитии гражданского законодательства.
Дарение, прощение долга, согласие, односторонняя сделка
Короткий адрес: https://sciup.org/14121079
IDR: 14121079
Текст научной статьи Прощение долга сквозь призму философского и экономического контекста правового регулирования
Требуется ли согласие лица на благодеяние в его пользу?
В контексте российского законодательства данный вопрос может показаться неактуальным. Самая распространенная правовая конструкция, опосредующая благодеяние одним лицом другого, — договор дарения. Закон устанавливает именно договорную конструкцию правоотношения. Это означает, что согласие одаряемого на благодеяние в его пользу необходимо. Таким образом, закон в своих правовых конструкциях отражает ценность в правопорядке базового принципа автономии личности — навязанное благодеяние недопустимо1.
В то же время не все советские правоведы соглашались с такой квалификацией отношения дарения. Б. Б. Черепахин полагал, что договорная конструкция дарения является фикцией, прикрывающей существо отношений дарения, которые должны быть квалифицированы как односторонняя сделка2. Однако такая позиция здесь приводится не ради исторической справки. Несмотря на то, что закон в части регулирования отношений дарения остается неизменным, повод поставить этот вопрос на современном этапе развития гражданского права все же возник. В результате реформирования Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в 2015 г. претерпела изменения ст. 415 ГК РФ, посвященная прощению долга. Даже без обращения к деталям проблемы разграничения конструкций дарения и прощения долга сложно отрицать, что прощение долга, так же как и дарение, опосредует отношения благодеяния. Однако в результате реформы необходимость получения согласия должника на прощение долга была поставлена под сомнение. П. 2 ст. 415 ГК РФ сформулирован следующим образом:
«Обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга , если должник в разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга».
Должник не должен выражать свое согласие, но может направить возражение о прощении долга. В доктрине данная новелла толкуется по-разному. Высказывается позиция, согласно которой прощение долга представляет собой одностороннюю сделку3. Ряд авторов продолжают видеть в сделке по прощению долга двусторонний характер, однако с презюмируемым акцептом долж-ника4. В любом случае отношение к воле должника в новой конструкции меняется. Воля должника либо не нужна, либо презюмируется. За этими тонкими настройками института прощения долга стоят принципы гражданского права и теоретические основы построения правового регулирования. Точечное изменение нормы об одном из оснований прекращения обязательств способно поставить вопрос о степени реализации в отечественном праве принципа индивидуализма и автономии воли.
СТАТЬИ
Может, принцип автономии воли перестает быть непререкаемой ценностью гражданского права?
В обоснование нового подхода законодателя к прощению долга можно предложить следующий аргумент. Много ли должников откажутся от того, чтобы их долг простили? Такие должники, конечно, будут, но они в меньшинстве. Гражданское право должно отвечать интересам не меньшинства, а большинства. Что более распространено, то и должно быть общим правилом. Если большинство должников согласились бы с прощением долга, то зачем устанавливать в качестве правила по умолчанию необходимость получения согласия? Такое регулирование требует дополнительных издержек на согласование воль, а следовательно, является экономически неэффективным.
Экономический анализ права против философии права
На институтах дарения и прощения долга видно, что правовое регулирование может иметь разные основы. К таким основам можно, в частности, отнести экономический анализ права и философию права. В науке экономического анализа права сформулировано понятие majoritarian default rule (мажоритарная диспозитивная норма). Это диспозитивная норма, которая соответствует воле большинства5. Такой подход к формулированию диспозитивных норм уменьшает трансакционные издержки на согласование условий договора, отличных от диспозитивной нормы6. А экономия трансакционных издержек, в свою очередь, ведет к повышению экономической эффективности, что является одной из целей правового регулирования. Если следовать логике экономического анализа, то уменьшить издержки позволяет модель, которая не требует выражения воли одаряемого на получение дара и воли должника на прощение долга. Если большинство лиц, в пользу которых совершается благодеяние, согласно на это, нормы, опосредующие такое благодеяние, должны быть сконструированы по модели односторонней сделки.
Таким образом, возможным обоснованием внесения изменений в ст. 415 ГК РФ является выбор законодателем экономической основы правового регулирования. В то же время дарение остается именно договорной конструкцией. Что может лежать в основе данного правового регулирования института дарения?
Философия права формулирует следующий принцип: «Никто не может навязать непрошеную выгоду другому». Этот принцип ярко проявлялся в римском праве, в котором существовала максима “alteristi pulari nemo protest”7. Она означала, что каждый может только самостоятельно приобретать то, в чем он имеет интерес. Именно на основе данной максимы в римском праве отрицались такие институты, как представительство и договоры в пользу третьего лица8. Формулирование такого принципа связано с философским контекстом крайнего индивидуализма римской юриспруденции.
Однако в континентальном праве с развитием институтов представительства и договоров в пользу третьего лица эта римская максима была пересмотрена. Догматический принцип уступил место потребностям экономики9. Есть ли вероятность, что такая же судьба ждет и договор дарения,
СТАТЬИ
который на основе экономического анализа права трансформируется в одностороннюю сделку? Или потребности экономики все-таки не всегда способны вытеснить подходы правопорядка, основанные на догме права и философии права?
Экономический анализ и философия права: вместе или порознь
Особое значение в контексте философии права имеет социологическое понимание права. С. С. Алексеев отмечал, что право обладает способностью реагировать на изменяющиеся условия общественной жизни10. Право не только опосредует социальные отношения, но и является продуктом социального взаимодействия. Получается, что право — это то, что действительно встречается в общественных отношениях, распространено в них и востребовано. И тогда мы опять приходим к идее права как права большинства. Сконструированная законодателем норма должна являться обобщением практики социального взаимодействия. И следовательно, такая норма должна представлять собой majoritarian default rule — мажоритарную диспозитивную норму, то есть норму, которая соответствует превалирующей социальной модели поведения. Однако основой majoritarian default rule здесь становится не принцип экономической эффективности, а социологическое понимание права.
Интересную метаморфозу демонстрирует и подход Б. Б. Черепахина. Конструкцию дарения как односторонней сделки он выводит догматически, на основе представлений о юридически значимой воле11.
Получается, что и философия права, и экономический анализ права могут приводить к одним и тем же результатам и необязательно находятся в непримиримом противоречии. Из приведенных рассуждений следует, что обосновать односторонний характер сделок, опосредующих благодеяние, может как экономический анализ, так философия права.
В то же время следует отметить, что социологический подход к праву не всегда предопределяет выбор модели правового регулирования.
С. С. Алексеев считал, что задачей философии права является объяснение смысла и предназначения права сквозь мировоззрение общества, через призму общественных ценностей12. Он называл философию права интеграцией философских идей и данных правоведения13. Ученый в своих исследованиях отмечал, что в основе частного права лежат философские идеи равенства, личной свободы, автономии воли14.
Принцип автономии воли раскрывается в рассуждениях М. М. Агаркова. Ученый полагает, что, если имя человека использовано в положительном контексте, например, ему приписаны какие-нибудь геройские поступки, он все равно имеет право на защиту своего имени15. Иное привело бы к нарушению права быть собой. Имя в его правовом значении, по мнению М. М. Агаркова, является обособлением индивидуализации, а в его философской основе лежит моральное достояние человека16. Этот пример показывает значение ценности и независимости человеческой личности в определении своего неимущественного и имущественного положения, даже если кто-то хочет это положение улучшить.
Сложно отрицать, что принцип личной свободы и автономии воли является философской основой частного права и сегодня. Данные ценности формируют в качестве субъекта права свободное автономное лицо, которое само вправе принять решение, желает оно получить благодеяние или нет. Из этого следует, что существующие в обществе ценности не позволяют экономическому анализу предопределить выбор нормативных правовых конструкций.
В то же время при выборе философии права в качестве основы правового регулирования вновь возникает интересная метаморфоза. С. С. Алексеев отмечает, что фундаментальная ценность свободы имеет прежде всего экономическое значение. Именно ценность свободы лежит в основе принципов свободы конкуренции, свободы договора — основных принципов рыночной экономики, предопределяющих экономическую эффективность обмена17. Таким образом, конструирование правового регулирования по догматическим принципам позволяет достигать цели, которые ставит перед собой экономический анализ права. В контексте проблемы навязанного благодеяния принцип свободы личности не позволяет установить в качестве общего правила односторонний характер сделок, опосредующих благодеяние.
СТАТЬИ
На основе приведенных рассуждений можно сделать вывод, что экономический анализ права и философия права не являются взаимоисключающими предпосылками построения правового регулирования. Любая правовая норма может иметь в основе философскую ценность и одновременно обеспечивать достижение экономической эффективности. Выбор конкретной модели правового регулирования должен предопределяться взвешенным соотношением философских и экономических ценностей на долгосрочную перспективу.
Список литературы Прощение долга сквозь призму философского и экономического контекста правового регулирования
- Агарков М. М. Право на имя // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М.: Статут, 2005. 620 с.
- Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство НОРМА, 2001. 752 с.
- Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М.: Юрид. лит., 1971. 223 c.
- Алексеев С. С. Философия права. М.: Издательство НОРМА, 1997. 336 с.
- Алексеев С. С. Юридические конструкции - ключевое звено права (в порядке постановки проблемы) // Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2001. С. 5-20.
- Бибикова Е. В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве (сравнительно-правовой обзор) // Договоры и обязательства: сборник работ выпускников РШЧП. I том. 957 с.
- Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ст. 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, О. А. Беляева; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. 1120 с.
- Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016. 528 с.
- Черепахин Б. Б. Дарение по Гражданскому кодексу Р.С.Ф.С.Р. Труды по гражданскому праву. Книга четвертая. М., 1923. С. 45-47.
- Posner R. A. Economic Analysis of Law. 8th ed. New York: Aspen Publishers, 2010. 787 p.