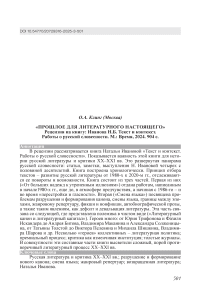«Прошлое для литературного настоящего» Рецензия на книгу: Иванова Н.Б. Текст и контекст. Работы о русской словесности. М.: Время, 2024. 904 с.
Автор: О.А. Клинг
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Обзоры и рецензии
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В рецензии рассматривается книга Натальи Ивановой «Текст и контекст. Работы о русской словесности». Показывается важность этой книги для истории русской литературы и критики XX–XXI вв. Это развернутая панорама русской словесности: статьи, заметки, выступления Н. Ивановой четырех с половиной десятилетий. Книга построена хронологически. Принцип отбора текстов – развитие русской литературы от 1980-х к 2020-м гг., отслеживаются ее повороты и возможности. Книга состоит из трех частей. Первая из них («От больших надежд к утраченным иллюзиям») отдана работам, написанным в начале1980-х гг., еще до, в атмосфере предчувствия, а начиная с 1986-го – и во время «перестройки и гласности». Вторая («Смена языка») посвящена проблемам разрушения и формирования канона, смены языка, границе между эпохами, жанровому репертуару, фикшн и нонфикшн, автобиографической прозы, а также таким явлениям, как дефолт и девальвация литературы. Эта часть связана со следующей, где представлена полемика в чистом виде («Литературный канон и литературный капитал»). Героев много: от Юрия Трифонова и Фазиля Искандера до Андрея Битова, Владимира Маканина и Александра Солженицына, от Татьяны Толстой до Виктора Пелевина и Михаила Шишкина, Владимира Шарова и др. Несколько «героев» коллективных – литературная политика; премиальный процесс; критика как изменчивая институция; толстые журналы. В совокупности эти составные части книги высветили сложный, порой противоречивый литературный процесс XX–X XI вв.
Русская литература и критика XX–XXI вв., разрушение и формирование нового канона, смена языка, жанровый репертуар, возвращенная литература, Наталья Иванова
Короткий адрес: https://sciup.org/149149419
IDR: 149149419 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-501
Текст научной статьи «Прошлое для литературного настоящего» Рецензия на книгу: Иванова Н.Б. Текст и контекст. Работы о русской словесности. М.: Время, 2024. 904 с.
Russian literature and criticism of the 20th–21st centuries; destruction and formation of a new canon; change of language; genre repertoire; returned literature; Natalia Ivanova.
В названии данной рецензии – цитата из рецензируемой книги Н. Ивановой «Текст и контекст. Работы о русской словесности». Ее автор – ведущий критик, чьи работы являются частью современного культурного процесса, литературовед. Начало книги посвящено теории литературы и критики. Но не только поэтому книга – явление не только критики, но и филологии. Филологическая матрица исследования в высшей степени аргументированно погружена в критику. Книга чрезвычайно масштабна по охвату материала: 904 с. Работы впервые появлялись в СССР, потом в России – и за рубежом, в периодических изданиях, сборниках статей, коллективных монографиях, а также в качестве докладов и выступлений, предисловий и послесловий. Книга построена хронологически. Принцип отбора текстов – развитие русской литературы от 1980-х к 2020-м гг., отслеживаются ее повороты и возможности.
Автор полагает, что не только либерализация режима, гласность породили свободную русскую литературу, но и сами литераторы (писатели, издатели, редакторы). Хотелось бы в это верить, но тезис не бесспорный. Это уже из нашего времени так может показаться. А тогда дело обстояло несколько по-иному. Но есть и другое. Когда автор включает в панорамный обзор литературных событий почти за 45 лет свои статьи прежних лет, возникает угроза, что они устарели. С дистанции времени что-то смотрится по-иному. Но уже первая часть книги («От больших надежд к утраченным иллюзиям») убеждает: уровень статей был таков, что они в основном сохранили и сегодня точность взгляда. И тем не менее из-за отдаленности описываемых явлений стоит уделить первой части особое внимание. В статье «Вольное дыхание» (1983) дан разбег, предчувствие приближающихся перемен в литературе. Н. Иванова писала о коротком веке исповедальной прозы, которая уступила место традиции объективного, близкого к эпическому повествования. Автор отсылает к статье И. Дедкова «...Когда рассеялся лирический туман...» (1981). Сама же считает, что «жизнь всегда богаче любых литературных форм… Жизненное содержание во всей его непредусмотренности, непредопределенности не укладывалось целиком в ложе привычных, освоенных причинно-следственных связей» [Иванова 2024, 14].
Рядом с такой прозой появились два новых потока: «фантастическая» и «авторская» проза, по-новому исследующая и преображающая эмпирику действительности. (Автор отмечает в этих терминах их «исключительно рабочий характер» [Иванова 2024, 15]). Отсюда появление у многих писателей того времени фантастики. Здесь и сыграла свою важную роль, как пишет Иванова, «“авторская” проза – жанровое направление, возникшее в литературе органически, ответившее на насущный вопрос читателя» [Иванова 2024, 43].
В статье «Сюжет и слово в рассказе» (1985) Н. Иванова осмысляла новые черты жанра рассказа. Это «свобода и раскрепощенность композиции, совмещение повествования от третьего и от первого лица, включение отступлений, смещение времен, опора не столько на внешний, сколько на “внутренний” сюжет» [Иванова 2024, 64]. Но Иванова увидела в ослаблении фабульных связей в рассказе свои пределы:
«Ассоциативный», бесфабульный рассказ требует особого напряжения стилистики, точнейшей деталировки, требует развития внутренней идеи, которая должна быть обеспечена небанальной авторской мыслью. Там, где этого нет, «ассоциативный» рассказ вырождается, превращаясь либо в набор претенциозных и бессвязных пустот, либо в «общее место» [Иванова 2024, 64].
А. Чехов признавался И. Бунину: это он и Лев Толстой утвердили в русской литературе начала XX в. жанр рассказа. Роман стал на время уделом графоманов. Рассказ вывел из тупика. Сходного не произошло в середине 1980х гг. Именно сюжет сыграл важную роль в повести Ю. Трифонова «Дом на набережной» (1976), которому была посвящена статья Н. Ивановой «Юрий Трифонов. Забвение или память» (1983). Трифонов – один из любимых писателей критика: в восстановлении памяти, «противостоящем забвению» [Иванова 2024, 87], его заслуга.
Эти построения с теоретическим элементом отразили стремление литературы эпохи застоя к «вольному дыханию». Оно было обретено в эпоху перестройки, и этому Н. Иванова посвятила три важных для понимания литературного процесса статьи: «Испытание правдой (о журнальных публикациях 1986 года)», «Легко ли быть? (О журнальных публикациях конца 1986– 1987 годов)», «Хранить вечно (о журнальных публикациях 1988 года)». Тогда они были на слуху. Это смелое приближение к осмыслению резко поменявшейся культуры, которая отразила вздыбившееся время. Эпиграфом к первой статье не случайно взяты слова Трифонова: «...Мы оказались соседями по времени, в котором достало сь жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных – всех, всех, всех» [Иванова 2024, 88].
Главную тенденцию 1986 г. Н. Иванова видела так: «Борьба с фальшью и лицемерием, с ложью. Борьба за гласность, за социальную справедливость. Борьба за очищение. Борьба с серостью – за жизненное пространство для настоящей литературы» [Иванова 2024, 91]. Печатаются Н. Гумилев, В. Набоков, А. Платонов. И тем не менее вывод критика:
…литература наша пока еще не обрела новое художественное качество. Более того, произошла даже некоторая потеря качества накопленного. Многие произведения известных писателей, опубликованные в этом году, не выдерживают сравнения – по глубине художественной мысли – с их же более ранними вещами, создававшимися в более трудные времена [Иванова 2024, 134–135].
Ю. Тынянов назвал свою статью 1924 г. о прозе «Промежуток». Ю. Лотман считал повторяющуюся ситуацию «промежутка» характерной для русской культуры в целом. Нетрудно увидеть сходство с выводом Н. Ивановой: «Парадокс: “стена”, сопротивление ей словно стимулировали художественный уровень прозы. Она побеждала сопротивление и укреплялась сама. Уровень же обнаженной писательской мысли сегодня еще не соответствует уровню общественного сознания (журналистики в частности)» [Иванова 2024, 135].
Название статьи «Легко ли быть?..» связано с нашумевшим в те годы документальным фильмом «Легко ли быть молодым?». Но критик расширил возрастной диапазон и фиксирует: «Литература и искусство бьются над мыслью о цене человеческой жизни. Дар бесценный? Или “дар напрасный, дар случайный”? И как этим даром распоряжаются?» [Иванова 2024, 136].
Н. Иванова отмечает, что публикаторская деятельность (проза М. Булгакова и А. Платонова, «Реквием» А. Ахматовой, «По праву памяти» А. Твардовского, др.) привела к тому, что литераторы нового времени через десятилетия как бы вступили в соревнование с «воскресшими» на соседних журнальных страницах. «Нелегкое испытание для современников наших, скажем прямо» [Иванова 2024, 168].
Третья статья из этого своеобразного цикла – «Хранить вечно» – посвящена романам и повестям, воскресшим в 1988 г. на страницах литературных журналов словно из небытия. Это «Софья Петровна» Лидии Чуковской (Нева. № 2), «Московская улица» Бориса Ямпольского (Знамя. № 2–3), «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана (Октябрь. № 1–4). По поводу этих трех произведений Н. Иванова писала в год их выхода: «Правда и есть та самая художественность, которую мы так ждали. И надо отдать должное писателям, в нелегких условиях эту правду для нас бесстрашно добывавшим» [Иванова 2024, 186]. Н. Иванова прослеживает, как эта правда воплотилась в произведениях великих писателей конца XX в. В литературе того времени она видела «трудное восстановление в правах “ненужных вещей”. “Ненужные вещи”, то бишь гуманистические ценности, оказались жизненно необходимы. И мы все сегодня – вольно (или невольно) слушатели этого факультета» [Иванова 2024, 205]. Иванова имела в виду роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», опубликованный в 1988 г. в «Новом мире».
В статье 1989 г. «Верный Руслан, Чонкин и другие», говоря об опубликованных произведениях эмигрантов Г. Владимова и В. Войновича, Иванова отмечала, что они «попали в самую болевую точку, неразрешимую проблему»
[Иванова 2024, 218]. Это трагедия преданности и ее комедия. Затем в книге идут статьи о Фазиле Искандере, Андрее Битове, Владимире Маканине, др.
Во второй части книги («Смена языка») статьи 1990–2004 гг. Хотя это время не такое далекое, оно тоже отрезано от нас прошлым. Нерв эпохи в названии первой статьи этой части «Свободное слово после эзоповой речи». Иванова пишет о прозе «шоковой терапии» [Иванова 2024, 436] (С. Каледин), где особенно заметна смена языка: «Ломался словарь, менялся сам лексический состав художественного произведения» [Иванова 2024, 436]. Сложился новый поэтический словарь. По мнению критика, эта неустойчивая ситуация сложна. Произошло очередное обновление литературы, которое привело и к негативным явлениям. Это пошлость как эстетический феномен, прививка массолита. Победила массовая литература – считала Иванова в 1995 г. В статье «После империи» Иванова прослеживает, как постсоветская литература ищет новую идентичность. Это происходит по-разному, «крайне мучительно», «художественно не всегда плодотворно». Н. Иванову настораживает в этом новая мода, она пишет с иронией о «ведущих домах моды» и «кутюрье», в роли которых выступали номинаторы многочисленных в то время конкурсов [Иванова 2024, 530]. «Литературный быт… изменил само содержание литературного факта» [Иванова 2024, 531].
В другой статье автор рецензируемой книги прослеживает формирование русского проекта вместо русской идеи. Сначала очевидный факт: «мы проснулись в иной стране» [Иванова 2024, 533] после распада СССР. «Миф новой России создавался в газете» [Иванова 2024, 536]. Пример – «новые русские» [Иванова 2024, 536]. Не то чтобы автор был в тоске по стандартам советской культуры. Но Н. Иванова вопрошает: «Что так резво отменял Виктор Ерофеев? Поминки-то были преждевременны» [Иванова 2024, 538]. Н. Иванова в статье с манифестарным заголовком «Критика – это критика» (2005) видела решающую роль критиков в литературном процессе. Критики, а не прозаики встали во главе литературных журналов. И все же критика, которая утратила былую – официальную – влиятельность, не обрела, по мнению Ивановой, новой.
Другие темы второй части книги – Солженицын и Бродский. Вывод Ивановой: «Бродский никогда не сможет ответить на нападки Солженицына, а Солженицын навсегда останется в неожиданной компании – супротив навеки умолкнувшего поэта» [Иванова 2024, 659]. Тут же помещена еще статья о спорах В. Войновича и А. Солженицына, но здесь отсылаем к самой книге.
Третья же ее часть состоит из статей 2002–2022 гг. Еще одна, особая литературная эпоха. Здесь порой хлесткие, но цепляющие глаз читателя заголовки-идеи: новый агитпром, литературный дефолт, литературная резервация: рубль за вход, два за выход, наличность и личность, смешанная техника: «языкомир» современной словесности, литературное селфи на фоне двух эпох, «ностольящее» (неологизм). В статье «Смешанная техника» (2020) точное наблюдение:
В современной русской прозе язык <…> стал <...> сюжетообразующим. Непосредственно «вокруг языка», его реформ и изменений разворачиваются сюжеты «Урока каллиграфии» Михаила Шишкина, романов «Орфография» Дмитрия Быкова, «Логопед» Валерия Вотри-на, «Пустырь» Анатолия Рясова. Сюжеты, порождающие для своей реализации «новые»-старые (устар.) языки или смешивающие временные слои языка, легли в основу романов Алексея Иванова и Ев- гения Водолазкина <…> Как заметил <…> Алексей Иванов, «проблема устройства речи» – это проблема «устройства социума» [Иванова 2024, 847–848].
Но смысловой центр раздела – это статья 2022 г. «Когда погребают эпоху (Проза 1990-х и проза о 1990-х)». К ней автор поместил послесловие: название с ахматовской цитатой из стихотворения 1940 г. об оккупации Парижа появилось позже. Прежде было: «Воображая 90-е». «Главный урок длинных 1990-х состоит… в том, что свобода для жизни, не только литературной, неизбежно наступает. Даже после десятилетий мрака» [Иванова 2024, 874].
Книга Н. Ивановой полно и многогранно воссоздала уникальный период русской литературы конца XX – начала XXI в. Стали печататься запретные произведения, лежавшие в столах писателей, в том числе произведения русского зарубежья, обретшего второе дыхание серебряного века, «там-издата» и «здесь-издата», раньше не доходившие до русского читателя, новая проза и поэзия молодых авторов, созданная уже в постсоветскую эпоху. Поразительный синтез прошлого и настоящего. Литературная эпоха, которой не бывало прежде, которая преобразила русскую культуру неузнаваемо и которая уже стала историей. Сегодня мы в еще большей степени осознаем неповторимость, значимость этого периода. Его, чтобы не путать с серебряным веком, можно назвать платиновым. Это был шаг вперед, а не назад. Необратимый.