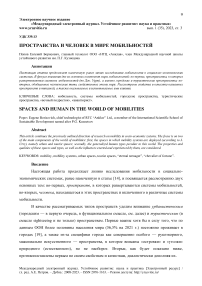Пространства и человек в мире мобильностей
Автор: Попов Евгений Борисович
Статья в выпуске: 1 (35), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья продолжает намеченную ранее линию исследования мобильности в социально-экономических системах. В фокусе внимания две из основных компонент мира мобильностей: во-первых, пространства, в которых развертываются системы мобильностей (по Дж. Урри), а именно городские и туристические пространства; во-вторых, обобщенные человеческие типы, свойственные этому миру. Рассмотрены свойства и качества названных пространств и типажей, а также оказываемые и испытываемые ими влияния.
Мобильность, системы мобильностей, городские пространства, туристические пространства, «вечный подросток», «авантюрист»
Короткий адрес: https://sciup.org/14128089
IDR: 14128089 | УДК: 339.13
Текст научной статьи Пространства и человек в мире мобильностей
Настоящая работа продолжает линию исследования мобильности в социальноэкономических системах, ранее намеченную в статье [14], и посвящается рассмотрению двух основных тем: во-первых, пространств , в которых развертываются системы мобильностей, во-вторых, человека , находящегося в этих пространствах и включенного в различные системы мобильности.
В качестве рассматриваемых типов пространств уделим внимание урбанистическим (городским — в первую очередь, в функциональном смысле, см. далее) и туристическим (в смысле sightseeing и не только) пространствам. Первые важны хотя бы в силу того, что по данным ООН более половины населения мира (56,5% на 2021 г.) постоянно проживает в городах [19], а также из-за специфики города как совершенно особого — рукотворного, максимально искусственного — пространства, в которое вписаны «островки» и «уголки» природного (естественного), но не наоборот. Вторые, как будет показано ниже, противопоставлены первым по своим свойствам и качествам, диалектически дополняя их.
Описывая специфику выбранных двух типов пространств, осуществим переход к человеку, находящемуся и действующему в них, — через то влияние (во многом формирующее и направляющее), которое эти типы пространства оказывают на него.
Городские пространства
Современные урбанистические пространства сложны и многообразны, особенно в больших городах. На Западе в XX в. они тяготели к типизации и разделению по функциональными признакам, однако инфраструктура (в особенности транспортная, непосредственная относящаяся к системам мобильности) пронизывала их все, образуя собственное «пространство внутри пространств». На Востоке мы можем наблюдать б о льшую эклектичность городских пространств, смешение функций и неоднородное наполнение даже небольших территорий, которое, к тому же, может претерпевать изменения в течение недели или даже одного дня.
Для начала обратимся к особенностям зонирования американских мегаполисов 1930-х гг., описанным Л. Виртом в работе [3]. Вирт разграничил и противопоставил деловой центр, в котором отсутствует жилая застройка, и пригороды, в которых она, напротив, превалирует (как многоэтажная, так и частная — как правило, в мегаполисах встречались оба этих типа: горожане расселялись в них в зависимости от достатка). Но он также выделил в наибольшей степени интересующую нас «транзитную зону», опоясывавшую деловой центр, где владельцы земельных участков держали их в спекулятивных целях — например, для дальнейшей выгодной продажи под застройку (в этом случае участок отходил либо к расширявшемуся деловому центру, либо к жилой зоне), в ожидании которой сдавали их в аренду, не заботясь о благоустройстве. Такие «транзитные зоны», наполненные складами, доходными домами и просто пустырями, становились местом проживания представителей городского дна, что порождало разгул преступности, создавало очаги распространения инфекционных заболеваний и т.п. При этом горожане, работавшие в деловом центре, жили вне этих зон и «проскакивали» их по пути на работу и с работы [3, с. 80-81].
Примечательно, что система мобильности, господство которой устанавливалось в Америке тех лет, а именно автомобильность, лишь усугубляла «буферный» статус рассматриваемых зон, практически превращая их в то, что М. Оже значительно позже в работе [13] назвал «не-местами». Однако ее формирующее влияние на городские пространства в целом было намного сильнее: автомобили не только вытесняли пешеходов с улиц и подчиняли потребностям своих владельцев планировку городов [17, с. 244-246], но даже видоизменяли архитектурные формы. Ле Корбюзье, выдающийся архитектор XX столетия, обозначил это влияние термином «интенсификация», отметив, что человек, стоящий на тротуаре, видит и воспринимает окружающие его здания кардинально иным образом, нежели человек, едущий по этой же самой улице на автомобиле со скоростью 70 км/ч: для второго наблюдателя мелкие детали (декоративные изгибы, орнаменты и другие нюансы) оказываются неразличимыми и сливаются в одну полосу — «архитектурный язык предельно упрощается» (цит. по [6, с. 8788]).
Депрессивные явления в экономике (кризисы, рецессии) вызывали в первую очередь упадок именно деловых центров городов, что Вирт наблюдал воочию, однако он видел возможность «переформатирования» этого пространства мегаполиса — иного использования имеющихся в ней зданий и инфраструктуры, которые, несмотря на запустение, все еще оставались ценными материальными объектами (например, превращение в жилые или рекреационные зоны) [3, с. 96]. Это в и дение было неоднократно реализовано на практике, и один из наиболее показательных примеров такого рода — даунтаун Детройта, получивший в XXI в. новую жизнь после десятилетий упадка.
Но если сфокусироваться непосредственно на упадке, то мы увидим, что «транзитная зона» как бы захватывает и центр («сжимающийся» из-за банкротства предприятий), и жилые кварталы (поскольку жители покидают их, лишившись работы), расширяется за их счет и перестает быть «не-местом», заявляя о своем существовании предельно недвусмысленно и «отбрасывая тень» на весь город.
Теперь поместим вышеописанное в исторический контекст. Если обратиться к описаниям поныне существующих городов Запада, которым не одна тысяча лет, — например, елизаветинского Лондона (по объемному тому П. Акройда [1], который, хотя и написан художественным языком, все же основан на фактах) или Парижа до «османизации» (по описаниям французских литераторов XIX в., подвергнутым обобщению и анализу с позиции психогеографии в книге [9]), — то мы увидим, что в течение большей части своего существования (по крайней мере, если говорить о документированном периоде) эти города являли собой примеры органического способа упорядочения пространства. Конечно же, в них существовало разделение мест по функциональному признаку (жилые районы, рынки, ремесленнические кварталы, места размещения органов власти и мн. др.), а также встречались многофункциональные зоны (скажем, одна и та же площадь могла быть местом как проведения карнавала, так и отправления правосудия), но само расположение этих мест относительно друг друга было мозаичным, выглядело «лоскутным одеялом». Это обусловливало индивидуальность каждого места и невозможность его превращения в «не-место». Таким образом, способ упорядочения пространства, характерный для американского мегаполиса по Вирту, может быть назван механическим (без какого-либо пренебрежительного оттенка — этот термин наиболее емкий).
Авторы коллективной монографии [20] свидетельствуют, что на Востоке способ упорядочения городского пространства, названный в данной работе органическим, все еще достаточно проявлен (как правило, если речь идет о крупном городе, — в синтезе с механическим). Ими рассмотрен яркий пример базара Бегам в Хайдарабаде: плотно заполненное пространство — пестрый «город внутри города», — характеризующееся множественностью способов использования, которые могут циклически изменяться, и резко противопоставленное «…современным жилым кварталам и высокотехнологичным районам, в которых все функции аккуратно обособлены и разделены» [20, с. 100]. В этом месте уличное пространство представляет собой крайне ценный ресурс (в силу дефицитности) для каждого экономически активного лица, поскольку напрямую влияет на благосостояние; при этом улицы базара формально являются ресурсом общего пользования (а не частными земельными участками), так что любому желающему апроприировать ту или иную их часть необходимо договориться со всеми заинтересованными сторонами [20, с. 105].
Из приведенного выше краткого описания некоторых типов городских пространств можно предположить, что проживание или сколь-нибудь длительное пребывание в том или ином их типе способно оказать психологическое (как минимум, эмоциональное) воздействие на человека, и из этого предположения где-то в «серой зоне» между наукой и художественными практиками сформировалась дисциплина, названная психогеографией. Обращение к результатам, полученным в рамках этой экзотической дисциплины, позволяет лучше понять взаимоотношения человека и пространства, в котором он живет и действует, но, конечно, не является единственным возможным источником для работы.
По наблюдениям Л. Вирта, житель мегаполиса того времени принадлежал к различным группам (в связи с многообразием интересов), носившим достаточно нестабильный, «текучий» характер и не поддававшимся иерархическому упорядочению, как в случае с сельскими жителями: временный характер связей, а иногда и среды обитания (если речь идет о съемном жилье) не вызывал укорененности и не формировал — в том числе и в силу масштабов города в сравнении с сельскими поселениями — представления о городе как о целом (и, следовательно, о том, что именно из предлагавшегося лидерами мнений и власть предержащими на самом деле в интересах горожанина) [3, с. 32-33].
Спустя 75 лет Вирту вторят авторы коллективной монографии [20], дополняющие его свидетельства о влиянии городского пространства на жителей более подробным разбором эффектов, которые проявляются при увеличении численности различных объединений горожан. В частности, они отмечают, что в группах размером до 150 человек все еще возможна ситуация, когда каждый знает всех остальных, и группа за счет стабильных отношений участников способна добиваться общих целей. Чем выше численность группы, тем меньше в ней «семейственности» и теплоты, отношения доверия сменяются эгоцентрическими отношениями обмена, нарастает «социальная лень» участников. Кроме того, анонимность, присущая членам крупных объединений, стимулирует поиски собственной одномоментной выгоды вместо внесения вклада в общее благо [20, с. 85].
Возвращаясь к инструментарию психогеографии, добавим к вышенаписанному наблюдения писателя Дж. Балларда, который в своих «урбанистических» романах в гротескной форме показал угасание эмоциональной восприимчивости городских жителей под оглушающим и дезориентирующим напором масс-медиа: «…мы оказываемся неспособны взаимодействовать с «сырой» реальностью, не опосредованной образами телевидения и рекламы. В результате… повседневность становится рутинным болотом, а вакуум чувственности мы пытаемся заполнить потреблением» [9, с. 141-142].
Какие имеются пути противостояния дегуманизирующему влиянию городских пространств? Выдающийся социолог М. Кастельс писал, что созданные доминирующими социальными группами для собственных нужд пространства могут быть «перезахвачены» простыми людьми и преобразованы в их повседневных пространственных практиках уже для достижения своих целей [20, с. 100]. Авторы [20] идут дальше и говорят о «производстве городских совместностей» — т.е. «перезахвате», согласованном внутри некой общности людей (предпочтительно — малой группы, в силу вышеописанных эффектов численности), приводя в пример вышеупомянутый базар Бегам. Отметим, что такой переход обратно к органическому упорядочению пространства (но на новом уровне) созвучен современному пониманию концепции устойчивого развития в ее социальном срезе: выгоду из использования пространств должны извлекать местные общины, и эта выгода должна быть общей.
При отсутствии низовой самоорганизации единственным способом временного снятия «гнета города» для горожанина остается бегство — поездка на отдых. И за пределами городов на протяжении последних без малого 200 лет очерчивались пространства, специально предназначенные вызывать положительные эмоции в процессе их «потребления». О них речь пойдет ниже.
Туристические пространства
Для человека, принадлежавшего к традиционному обществу, пространства за пределами поселений не являлись «не-местами», что убедительно показал А. Уоткинс в своей знаменитой работе “The old straight track” [21] — эта книга, впервые опубликованная около 100 лет назад, часто подвергалась неверным интерпретациям в мистическом ключе. Однако в действительности ее посыл прост: наши предки были гораздо внимательнее нас, они могли выстраивать свои маршруты, в том числе весьма протяженные (на сотни километров), опираясь на естественные или рукотворные ориентиры, которые наш глаз, перегруженный окружающим «визуальным мусором», уже не считывает.
В раннюю индустриальную эпоху возник иной способ восприятия пространства, отличный от вышеуказанного утилитарного: Дж. Урри характеризует его как переход от понятия «земля» к понятию «ландшафт»; в связи с этим он вводит понятие «мест аффекта» — т.е. локаций, способных вызывать аффективную радость (в том числе в связи с практиками, которые в них разворачиваются), переживание национальной идентичности и иные виды сильных эмоциональных реакций [17, с. 444-445]. «Места аффекта» и стали первыми туристическими пространствами .
Однажды возникнув, к середине XIX в. идея восприятия земли как аффективного ландшафта — с точки зрения живописности пейзажа — вызрела настолько, что даже вызвала в некоторых районах Англии, а также альпийских поселениях перемещение хозяйственных пристроек при вновь возводимых частных домах за здание, чтобы создать приятный глазу вид из окон; бок о бок с этим переносом фокуса («люди перестали принадлежать культуре и стали совершать по ней туры») шло развитие фотографии, ставшей еще одной системой мобильности. Процесс затронул и городские пространства: Париж, радикально перестроенный бароном Османом, стал уникальным и заманчивым зрелищем — впервые люди в большом городе получили возможность видеть на дальние расстояния и воспринимать намного б о льшие части города (не отдельные закоулки и тупички, а кварталы и улицы) как единое целое [17, с. 450-451] (но не будем забывать о рассмотренном выше переходе от органического к механическому способу организации городских пространств).
Таким образом, возник особый способ бытия-в-мире, при котором места можно сравнивать и противопоставлять друг другу, коллекционировать и посещать, намеренно приезжая издалека, — «в XIX в. был построен «мир как выставка». Нарастающие глобализационные процессы способствовали (и продолжают способствовать) конкуренции между туристическими пространствами за возможность привлекать как можно больше посетителей (определенного рода или широкого спектра). В результате некоторые из таких пространств превращаются в «глобальные идолы, к которым весь мир жаждет приблизиться и увидеть хоть раз в жизни» [17, с. 444-445].
В процессе становления «взгляда туриста» возникала специализация туристических пространств (они разделялись на места для sightseeing, для занятий физкультурой, для пассивного отдыха, для лечения и пр.), чему Дж. Урри посвятил главу 12 монографии [17]. На сегодняшний день туристические пространства, предлагающие посетителям несколько вариантов специализации на относительно небольшом расстоянии друг от друга или непосредственно в одной локации, называют региональными туристскими кластерами. В монографии [11] предложено следующее определение: под региональным туристским кластером понимается форма организации туризма, представленная совокупностью предприятий сферы туристского обслуживания и сопряженных отраслей, объединенных горизонтальными связями, синергия которых приводит к повышению эффективности функционирования совокупности в целом и ее отдельных предприятий, возникновению эффекта инновационности, способствует усилению внутри- и межрегионального разделения труда [11, с. 55].
Как уже было отмечено в статье [14, с. 43], представление мира как совокупности «открыточных» ландшафтов и тысячи-мест-которые-надо-посетить-пока-жив вызвало разрастание «не-мест» в промежутках, отделяющих одни туристические пространства от других. Поскольку основным принципом развития регионального туризма при наличии ранее сформированной инфраструктуры является использование всех видов туристских ресурсов, которые выступают основой существования туризма и как занятия, и как сферы хозяйствования [11, с. 65], региональный туристский кластер может бороться с экспансией «не-мест» по меньшей мере внутри своей территории посредством преобразования их в места притяжения для определенных категорий туристов (т.е. своего рода диверсификации). Автор настоящей статьи на собственном опыте 2022 г. может свидетельствовать о наработках в этом направлении в республике Дагестан: магистрали, соединяющие места притяжения туристов Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2023. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа:
(т.е. хрестоматийные «не-места»), наводнил малый бизнес (каждые несколько километров по основным автодорогам представлены передвижные кофе-машины, имеются многочисленные канатные дороги, видовые качели и мн. др. — причем, располагается все это в локациях, более ничем не примечательных, и может даже не иметь «местного колорита»).
Вместе с тем, туристические пространства, как и многое другое в глобализованном мире, становятся жертвами обезличивания: «…О местах узнают, их сравнивают, оценивают, ими обладают. Места больше не имеют своих собственных ассоциаций и значения… каждое из них — это комбинация абстрактных характеристик, указывающих, насколько оно живописно или космополитично, круто, экзотично, глобально или экологически запущено по сравнению с другими местами. <…> Это — потребление движения, тел, образов и информации, перемещение по, под и вокруг земного шара и сведение его к абстракции» [17, с. 450-451].
Противостоять этому явлению можно за счет реализации стратегии устойчивого развития в рамках конкретных туристских дестинаций. Современное в и дение устойчивого развития предполагает, что местные сообщества должны встраиваться в глобальную экономику к собственной выгоде, а не для того, чтобы служить исключительно «донорами» в разных смыслах слова (поставщиками ресурсов и рабочей силы, источником впечатлений и др.). Отсюда возникает концепция «триединой устойчивости»: социально-культурная устойчивость означает, что развитие туризма не воздействует негативно на местных жителей, способствует укреплению взаимопонимания между людьми разных традиций и происхождения и подчеркивает своеобразие места ; экономическая устойчивость связана с извлечением выгоды от развития туризма именно локальными сообществами (посредством создания рабочих мест, увеличения продаж изделий народных промыслов и мн. др.); экологическая устойчивость предполагает, что природопользование в местах притяжения туристов рационально, а местные экосистемы, сохраняемые в неповрежденном виде и, тем самым, вносящие вклад в уникальность места, являются еще одним компонентом, составляющим привлекательность дестинации для посещения [11, с. 41].
Также важный вклад в своеобразие туристического пространства способны внести устоявшиеся представления о конкретном способе путешествия к месту назначения (при этом любой другой способ будет означать для туриста неполноту получаемого опыта) [17, с. 445]. В «кристаллизованной» форме это воплощается в искусстве маршрутов [8, с. 166-167], которое создается и в городских, и в туристических пространствах: конкретный пример — вышедшие далеко за пределы города практики некоторых художников стрит-арта из Нижнего Новгорода, в произведениях которых (к примеру, создаваемых в разрушенных или просто покинутых зданиях, в заброшенных деревнях и дачных поселках) путь и окружение становятся неотъемлемыми компонентами опыта зрителя [16, с. 90-95]. Отметим также, что стрит-арт — это практика «перезахвата пространства» (см. выше).
Психологический портрет «человека мобильного»
Рассмотрев два широко распространенных в современном мире типа пространств, а также некоторые аспекты их психологического влияния на людей, сменим фокус и сосредоточимся непосредственно на человеке.
Ранее в статьях [4] и [18] через призму социального времени был описан ряд психологических эффектов, порождаемых современным миром. Учитывая эти результаты, обратимся к психологическому портрету индивида, который будет чувствовать себя «как рыба в воде» в текучем и непрерывно изменяющемся мире мобильностей. Для этого задействуем язык юнгианства — и обнаружим архетип Puer Aeternus (ребенка, который не желает взрослеть), совокупность свойств и качеств которого как нельзя лучше соответствует «мобильному» окружению: здесь и высокий темп процессов в сознании, и множественные связи (включенность в разветвленные коммуникации), и ощущение «мира как на ладони», и — самое опасное — отрыв от реальности, потеря «контакта с земной гравитацией». Р. Лопес-Педраза отмечал, что в обществе, в котором преобладают ювенильные идеалы, а противоположный полюс ( Senex , старик-мудрец) игнорируется, начинается поиск его компенсации, носящий, как правило, деструктивный характер [12, с. 97-99].
Американская культура, экспортируемая по всему миру различными способами, охарактеризована К. Рапаем как «культура переходного возраста» — «незрелая», становящаяся, «подростковая» [15, с. 35-39]. Как показано в статье [18] на материале Д. Гребера, люди, работающие по найму в течение всей экономически активной жизни, перманентно «застревают» (с традиционной социальной точки зрения) на стадии незрелости; «ученики могли стать подмастерьями, но подмастерья уже не могли стать мастерами» [7, с. 313-320].
Итак, «вечные подростки» оказываются помещенными в пространство «подростковой культуры». Нужен третий элемент, связывающий эти два с глобальным капитализмом как системой в первую очередь экономических отношений. И мы находим этот элемент у П.Г. Кузнецова в лаконичной, афористической форме: область «духовного производства» при капитализме сводится к личному потреблению [10, с. 208]. Подросток — это образцовый потребитель.
Таким образом, мы видим, что потребление служит «человеку мобильному» своего рода субститутом, заполняющим брешь действительного проживания , что вполне укладывается в контекст «виртуализации» его окружения (когда даже пространства и места сводятся к абстракциям и могут «потребляться», как было показано выше).
Однако это не единственный психологический тип, уверенно функционирующий в мире мобильностей. Другой тип — охарактеризованный Е.В. Головиным авантюрист , человек «неопределенных занятий, убеждений и целей», существование которого крайне динамично. Взятое само по себе «я» авантюриста оказывается «темным провалом», поскольку оно лишь очерчено атрибутами (именем, языком, мировоззрением, социокультурными ценностями) и хронологией, но при этом «…добродетели и пороки, вера и неверие, честь, совесть и принципы, модус целесообразности жизненного движения, рацио — все эти кардинальные понятия обусловлены соответствующим окружением » (курсив мой — Е.П. ). Для авантюриста «…не существует статичных категорий и закона исключенного третьего, для него существует только «практика относительности»; добродетель — извращенность порока, грех — перверсия подвига; цель проявляется только на фоне бесцельности, если нет цели, нет также и бесцельности и т.д. Тело и дух, явь и сон, жизнь и смерть постулируются для подобного индивида Случаем, Игрой, Метаморфозой» [5, с. 178-180].
Описанный крайний релятивизм жизненной позиции авантюриста позволяет ему быть mobilis in mobili , при этом осознавая свое положение, и использовать «вечных подростков» в своих интересах. И здесь обнаруживается удивительный параллелизм с определенными воззрениями и практиками эпохи Возрождения — а именно с изложенными в трактате Джордано Бруно «О связях как таковых» (“De vinculis in genere”, 1591) теорией и техниками «привязки».
Vinculum (привязка, узел) — одна из базовых категорий «философии магии» Дж. Бруно. Магия рассматривалась им не только как установление новых, ранее неизвестных связей природных явлений, но и как практическая деятельность, которую мы сегодня назвали бы «манипулятивной» психологией (а то и вовсе НЛП) — «врата» для привязки оказываются своего рода болевыми точками «привязываемого», осуществив привязку через которые, маг устанавливает власть над жертвой и может ею манипулировать. Как указывает М.М. Фиалко в предисловии к русскому переводу “De vinculis in genere”, для выдающегося исследователя интеллектуальной истории эпохи Возрождения Й.П. Кулиану этот трактат по значимости и глубине превосходил «Государя» Н. Макиавелли: маг из произведения Бруно оказывался «прототипом обезличенных массмедиа, самоцензуры, глобальной манипуляции» [2, с. 10-14].
Приведем развернутую цитату из трактата Бруно: «Итак, рассматривающему привязанность в мире социума на основе всех законов ее [материи] бытия должно быть ясно, что в каждой части материи, как и в ней самой вообще, во всяком индивиде или отдельном существе, запрятаны и заключены все потенции, а значит, благодаря умелому искусству может реализовываться применение всех привязок…» [2, с. 133].
Здесь как нельзя лучше видно, что именно ультра-релятивизм и динамизм бытия авантюриста позволяет ему использовать любые средства (применять все привязки «благодаря умелому искусству») ради манипулирования жертвами. Поскольку «во всяком индивиде… заключены все потенции», задача сводится к нахождению тех самых болевых точек — триггеров, набор которых хотя и различен для разных людей, но, тем не менее, многие из них являются общими для тех или иных групп. В ход идут фейки, провокации, избирательное замалчивание и перетасовка фактов и многое, многое другое… Мощь коммуникационных средств, предлагаемых современностью, и феномен «пост-правды» сильно облегчают задачу авантюриста.
Заметим еще раз, что речь в данном разделе идет о психологических портретах «вечного подростка» и авантюриста, а не о конкретных людях. Это два «полярных» типажа, которые без особых противоречий вписаны в глобальный мир мобильностей.
Заключение
В настоящей работе рассмотрено два характерных для современности типа пространств (городские и туристические), оценены отдельные факторы их влияния на психологическое состояние человека, предложены возможные варианты преодоления присущих им негативных аспектов. Также предпринята попытка «смены фокуса» и анализа с противоположной стороны — от человеческих типажей, которые «как дома» чувствуют себя в мире мобильностей. Данная работа является еще одним промежуточным этапом в исследовании мобильностей в социально-экономических системах и будет продолжена последующими публикациями.
Список литературы Пространства и человек в мире мобильностей
- Акройд П. Лондон. Биография / пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер: Изд-во Ольги Морозовой, 2015. — 894 с.
- Бруно Дж. О связях как таковых. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2020. — 192 с.
- Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / пер. с англ.; 2-е изд. — М.: Strelka Press, 2018. — 180 с.
- Головин А.А., Попов Е.Б., Шамаева Е.Ф. Социальное время: попытки исследования и управления — терминология и исторические примеры // Российский экономический журнал: №2, 2023. — С. 109-124. https://doi.org/0130-9757_2023_2_109.
- Головин Е.В. Авантюра и авантюрист // Головин Е.В. Где сталкиваются миражи. Европейская литература. Очерки и эссе 1960-1980-х годов. — М.: Наше завтра, 2014. — С. 177-186.
- Головин Е.В. Программирование прекрасного // Головин Е.В. Где сталкиваются миражи. Европейская литература. Очерки и эссе 1960-1980-х годов. — М.: Наше завтра, 2014. — С. 71-92.
- Гребер Д. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда. — М.: Ад Маргинем, 2020. — 440 с.
- Демпси Э. Модернизм и современное искусство / пер. Е. Куровой. — М.: Ад Маргинем Пресс; ABCдизайн, 2018. — 176 с.
- Каверли М. Психогеография / пер. с англ. — Тамбов: Ex Nord Lux, 2018. — 178 с.
- Кузнецов П.Г. Бюджет социального времени // Наука развития Жизни. Т. 3. Правильное применение закона / П.Г. Кузнецов. — М.: РАЕН, 2015. — С. 205-226.
- Кулян К.К., Кулян М.К. Устойчивое развитие туристских дестинаций в горной и предгорной зоне Северного Кавказа: монография. — М.: Инфра-М, 2019. — 143 с.
- Лопес-Педраза Р. Титаническая любовь и лунное безумие / пер. с англ. Л. Хегая и М. Каждана. — М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ», 2019. — 168 с.
- Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с фр. А.Ю. Коннова. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 136 с.
- Попов Е.Б. Понятие мобильности в социально-экономических системах: П.Г. Кузнецов и Дж. Урри // Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика: вып. №2 (34), 2022 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/?p=2851, свободный.
- Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. 3-е изд. / пер. с англ. У. Саламатовой. — М.: Альпина Паблишер, 2022. — 168 с.
- Савицкая А., Филатов А. Краткая история нижегородского уличного искусства. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. — 160 с.
- Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.В. Лазарева; вступ. статья Н.А. Харламова. — М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. — 576 с.
- Шамаева Е.Ф., Головин А.А., Попов Е.Б., Прокудин В.А. Исследование социального времени: современное состояние и практики воздействия // Уровень жизни населения регионов России: Т. 19, №2, 2023. — С. 254-259. https://doi.org/10.52180/ 1999-9836_2023_19_2_8_254_259; EDN TCJCOP.
- Total and urban population / UNCTAD: Handbook of Statistics 2022 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://hbs.unctad.org/total-and-urban-population/, свободный.
- Urban commons. Городские сообщества за пределами государства и рынка / под ред. М. Делленбо, М. Кипа, М. Бьеньек, А.К. Мюллер, М. Швегмана; пер. с англ. Д. Безуглова — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 320 с.
- Watkins A. The old straight track: its mounds, beacons, moats, sites, and markstones. 4th ed. — London: Methuen & Co. Ltd, 1948. — 356 p.