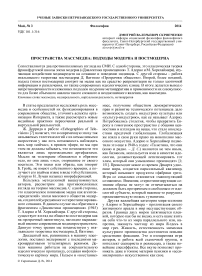Пространства массмедиа: подходы модерна и постмодерна
Автор: Скрипченко Дмитрий валерьевиЧ.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Сопоставляются два противоположных взгляда на СМИ. С одной стороны, это классическая теория франкфуртской школы эпохи модерна («Диалектика просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера), изучающая воздействия медиасредств на сознание и поведение индивида. С другой стороны - работа итальянского теоретика постмодерна Д. Ваттимо «Прозрачное общество». Второй, более поздний, подход (эпохи постмодерна) смотрит на медиа как на средство репрезентации не только хаотичной информации и развлечения, но также современных идеологических клише. В итоге делается вывод о непротиворечивости изложенных подходов на уровне метанарратива и применимости их совокупности для более объемного анализа такого сложного и неоднозначного явления, как массмедиа.
Массмедиа, медиареальность, виртуальная реальность, метанарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/14750656
IDR: 14750656 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Пространства массмедиа: подходы модерна и постмодерна
В статье предлагается исследовать роль масс-медиа и особенностей их функционирования в современном обществе, уточнить аспекты организации Интернета, а также рассмотреть новые медийные практики пересечения реальной и виртуальной реальностей.
Ж. Деррида в работе «Echographies of Tele-vision» [7] полагает, что в современную эпоху так называемых телетехнологий с их немыслимыми скоростями у нас есть возможность наблюдать весь мир «сейчас», в прямом эфире, но мы при этом не должны забывать, что возможности эти являются лишь производными артефактами. Мысли на телеэкране облекаются в образное тело, но они лишь «эхо», оторванное от своего носителя. Эти знаки или образы, как говорит Б. Гройс, не имеют собственного времени, а получают его взаймы извне в виде той субстанции, которую Н. Луман называл инореференцией.
Пользуясь методологией вышеупомянутых авторов, рассмотрим два противоположных взгляда на теорию массмедиа. С одной стороны, это классическое понимание медиа как агентов-«вредителей» эпохи массового общества модерна, создателей усредненного стереотипизирован-ного сознания. В данном случае мы обратимся к фрагментам «Диалектики просвещения» (1945) Т. Адорно и М. Хоркхаймера. С другой стороны, существует взгляд на общество постмодерна как на прозрачный паноптикум, наглядно выражаемый именно современным медиапространством. Данную точку зрения мы позаимствуем у итальянского теоретика постмодерна Д. Ваттимо.
Двадцатый век, развившись в машину идеологии, поставил эксперимент с последними макронарративами тоталитарных режимов. Детали машины работали на сокрушительную идеологическую пропаганду, создавая мифопоэтическую картину мира. Подъем и «восстание»
масс, получение обществом демократических прав и развитие технического потенциала дало возможность создать индустрию культуры или «культур-индустрию», как ее называет Адорно. Потребовались столетия, чтобы превратить Европу в гомогенное пространство с общими ценностями и взглядом на вещи, что стало впоследствии предтечей глобализации. Глобализация же взяла в свои руки право на монополию массового искусства. Адорно и Хоркхаймер подметили это еще в 1940-х годах: «Та истина, что они (кино и радио. – Д. С. ) являются не чем иным, как бизнесом, используется ими в качестве идеологии, долженствующей легитимировать тот хлам, который они умышленно производят» [1; 151]. Происходит новое со времен Декарта удвоение мира, создается параллельный квазимир, который называют продуктом «фабрики грез». Игра со смыслами становится «манипуляцией сознанием». Внешние, стереотипизирующие сознание образы не могут не отпечатываться на должном быть прозрачным и свободным от идеологий субъекте, который наконец-то разрушил просвещенческую модель гуманизма.
Другая важнейшая категория мира-иллюзии у Адорно и Хоркхаймера – пролонгация своего жизненного ареала в мир несуществующих образов. Граница двух миров затягивается пленкой, которую как бы не видно, и есть шанс взять на себя что-то из мира параллельного или, напротив, закинуть частицу из мира Я-здесь в мир грез. Живость, естественность мимесиса культурного производства достигается новыми средствами фиксации. Это и изощренная игра актеров, и работа всей съемочной группы, и интеллект сценариста и режиссера, а также новейшие спецэффекты. Все вкупе позволяет проникать даже в тонкие материи психики и «ассимилировать» искусственное как свое.
Адорно и Хоркхаймер называют сферу современного развлечения «пролонгацией труда», что есть воспроизведение уже знакомого и предсказуемого сюжета: «…запоминающейся же оказывается автоматизированная последовательность нормированных операций. Отвлечься от трудового процесса на фабрике и в бюро можно, только уподобившись ему на досуге» [1; 172]. Таким образом, кино занимает время досуга, а досуг ассоциативно воспроизводит рабочий день. Другой вопрос – о жанре кино. И если говорить об ассоциации кино с трудом, то минимум отвлеченности и рефлексии, на наш взгляд, должны предполагать, в частности, фильмы ужасов. Ужасы на экране – вербализованная невозможность встречи несовместимых миров. Встреча с невозможным и несовместимым миром, подобно чуду, привлекает к себе внимание. В то же время панический страх способен солидаризировать между собой разобщенные группы индивидов, подобно тому, как это случалось с греками при встрече с ужасным богом Паном, от которого смертные в панике разбегались. Здесь нельзя не отметить, что игра культуриндустрии во многом выстраивается на игре двумя эмоциями – страхом и смехом. Фильм ужасов – это еще и способ лишний раз утвердить себя: «Миг, когда ты пережил других, – это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец» [4; 138]. Здесь осуществляется пролонгация через образ смерти, через утверждение себя реального, через буквальное отрицание виртуального Другого на экране.
Джанни Ваттимо предлагает концепцию прозрачного, сложного и неоднородного по своей структуре социума, представляя его как общество массмедиа . Именно средства массовой коммуникации, по его мнению, способствовали разрушению эпохи макронарративов и политического и духовного колониализма западного мира. Вместе с тем разрыв с метанарративом предполагает отрыв от конкретной реальности. Реальность больше не самодостаточна и самоочевидна, она больше не успокаивает человека рационально, чем занималась все предшествующие эпохи. Ваттимо видит в утрате реальности эмансипирующее значение: «Здесь эмансипация состоит скорее в потерянности, отрыве от почвы, которые в наше время являются высвобождением различий, локальных элементов, всего того, что мы можем обобщенно назвать диалектом» [2; 16]. Освобождение позволяет встретиться с чем-то отличным от моего существования и разглядеть это что-то в моем собственном эстетическом опыте. Такое сосуществование миров позволяет «диалог и интерпретацию». Эра коммуникации также дает толчок в развитии и эмансипации гуманитарных наук, что, в свою очередь, по мнению Ваттимо, ведет к эмансипации субъекта.
Гуманитарный позитивизм, по Ваттимо, есть в некотором роде «реализация абсолютного духа» в обществе, духа, который только лишь призраком ходил при жизни Гегеля. Здесь же одной из основных проблем прозрачного общества является попытка найти этим обществом способ неотчужденного познания самого себя.
Идеал массмедиа – быть своим этимологически точным значением: выступать посредником между обществом и миром, независимо от идеологий. Однако посредник не пассивен и в эпоху информационного потребления способен вызывать «старые новые» болезни. Так, например, проблема преодоления отчуждения не решена и в Сети. Заставляя Интернет работать как омут памяти, в который сливаются все нужные и ненужные мысли, мы рассчитываем не просто сделать запись в дневнике, но оставить след, зафиксировать событие. Событие остается чем-то вроде информации о появившейся радуге и, скорее всего, не сможет представлять собой эксклюзив. Эта самодельно проложенная тропинка часто остается непроторенной для другого и нуждается в «сталкерстве» своего хозяина – создателя радуги. На пути в сетевом лесу мы можем замечать другую тропинку рядом со своей, но вряд ли мы пойдем по ней. Соседствующая с нашей тропой чужая информация о личном переживании другого, пусть даже самого глубокого экзистенциального характера, скорее всего, не привлечет наше внимание. Общаясь с человеком в онлайн-реальности, мы невольно опираемся на существующие тропы. Используя их вместо виртуального сталкера, мы приписываем онлайн-человеку собственные офлайн-стереотипические представления и характеристики. Тропы выступают для нас подсказками-медиаторами в сетевом общении.
Выделяя достоинства Интернета, мы приписываем ему неограниченные возможности. Пройти на нужный уровень информации можно, не обязательно вводя каждый раз новые данные в поисковую строку, но используя гиперссылки в имеющемся тексте. Это принимает способность изотропии [5; 193] – способность начинать путь с середины или конца, не понимая, что есть середина, а что конец. Но отсутствие жесткой ли-неарности зачастую приводит к приумножению сущностей в виде отсылки на несуществующие, спамовые, повторяющие друг друга страницы. При этом «основной характеристикой грязи является недостаток дифференцированности: смешение всех красок подряд дает “грязный цветˮ, неограниченное измельчение любого материала дает пыль, повсеместно воспринимаемую как загрязнение, подлежащее постоянному удалению, и так далее» [3; 186].
В сетевой реальности происходит упрощение истины. Упрощается и путь к ней: если раньше он был сопряжен с измененным сознанием че- рез усилие-трансгрессию, то сейчас его заменила «софт-версия», уводящая в Сеть. Вместе с ней иллюзия проникает в повседневность. Адорно и Хоркхаймер отмечали более привычное срастание культур-индустрии и идеологии в ХХ веке: «Чем более плотным и сплошным оказывается осуществляемое его техниками удвоение эмпирической предметности, тем легче удается сегодня утвердиться иллюзии, что внешний мир является всего лишь непосредственным продолжением того, с которым сводят знакомство в кинотеатре» [1; 175].
Прозрачное общество встраивается в сетку идеала коммуникации, которое Ваттимо называет «сообществом» – чистым актом естественной коммуникации: «Общество неограниченной коммуникации, общество, в котором реализуется сообщество логического социализма, – это и есть то прозрачное общество, которое именно на пути уничтожения препятствий и непрозрачности при помощи взятых за образец определенных идей психоанализа может повлиять на радикальное ослабление конфликтных мотивов» [2; 28]. Между тем самим Ваттимо признается, что вопрос о массмедиа и конструировании ими «объективной» реальности носит не обязательно объективный характер. Подобно дильтейев-скому различению объяснения и понимания, в информационном поле массмедиа следует различать факт и его интерпретацию . Интерпретативный характер информации, по Ваттимо, предоставляет возможность диалога . Объективная истина в ситуации диалога оказывается лишенной смысла, важным здесь будет лишь «само отношение партнеров к высказываемому» [2; 90]. Объективная истина остается идеалом «прозрачного субъекта» Адорно, претендующего на метафизическую «реальность».
Но и «медийный оптимизм семидесятых» не есть в корне то, что видит Ваттимо в качестве главного плюса современной системы. Он вводит понятие дереализации, дающее понимание эстетическому взгляду на преодоление метафизики, «эстетизации экзистенции», положенное Хайдеггером. Фактически понятие дереализации близко к положению Ж. Бодрийяра о том, что предметами потребления в современном обществе являются не сами материальные вещи, а знаки, их символизирующие. Точно так же происходит с информацией, которая становится товаром потребления. Но конфликт в дереализации, характиризующийся банальным «огла-муриванием» и «одомашниванием» реальности, «будет состоять в том, что она имеет тенденцию свести эстетический опыт к его классическому и “метафизическому” значению, к той идеальной завершенности, которая превращает его в мир “чистой фантазии”, существующей лишь в оппозиции к реальности» [2; 94]. Пределом де- реализации, а вернее ее незавершенности, оказывается пресловутый меркантильный рынок, являющийся естественным препятствием ее развития.
Еще один момент, на который обращает внимание Ваттимо, это обретение медиастатуса разношерстной и нестабильной (в разных смыслах) системой. Множество фактов и множество способов их интерпретации нестабильно заполняют современного индивида: «Если субъект эпохи постмодерна заглянет в себя, стремясь обнаружить былую ясность, он не найдет гарантированности картезианского cogito, но только прустовскую прерывистость биения сердца, рассказы масс-медиа и мифологемы, которые извлекает психоанализ» [2; 51]. Система медиа, говорит Ваттимо, теряет радиоуправляемый центр. Критика Франкфуртской школы апеллировала к медиа как к оружию в руках Йозефа Геббельса. Где-то с конца семидесятых годов «произошла трансформация технологии из фазы механической в фазу электронную, или информационную» [2; 87]. Еще до появления Всемирной паутины появляется Сеть информационная.
Новые коммуникативные возможности Интернета перенимают эстафету традиционных медиумов. Неявное поле, аура доинтернетовской эпохи обретает свое виртуальное пространство в Сети. Здесь можно быть творцом, но невозможно быть субъектом; можно быть интересным, но совершенно неинформативным. Это пространство преодолевания метафизики и макронарративов. И хотя преодолевать их приходится через шумы и толки, современные медиативные средства, и в первую очередь Интернет, представляют собой живую иллюстрацию теоретических положений философии постмодерна, как то: «интертекстуальность, плюрализм, горизонтальность, децентрализованность» [6; 198]. Одновременно с этим современному индивиду (а может быть, дивиду ) приходится мириться с брошенными ему, говоря словами Вальтера Беньямина, «оптическими вызовами» визуальной культуры: она (культура) растворяется в мировосприятии человека, всецело им поглощаясь.
Суммируя наблюдения над современным медиапространством и опираясь на исследования ученых разных эпох, можно сделать вывод о непротиворечивости изложенных подходов к проблемам функционирования СМИ. Обе методологии (Т. Адорно, М. Хоркхаймера и Д. Ваттимо) применимы в совокупности. Первая позволяет выявлять стереотипизирующие, а вторая – коммуникативные возможности массмедиа. Но, несмотря на их взаимодополняемость, нужно проявлять исторический подход. Если инструментарий Франкфуртской школы более применим для анализа СМИ первой половины ХХ века, то методы Ваттимо более успешно работают при анализе современного медиапространства.
Список литературы Пространства массмедиа: подходы модерна и постмодерна
- Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. 312 c.
- Ваттимо Д. Прозрачное общество. М.: Логос, 2002. 128 c.
- Гурко С.Л. Об иллюзии свободы в Интернете//Влияние Интернета на сознание и структуру знания. М.: ИФ РАН, 2004. С. 182-189.
- Канетти Э., Московичи С. Монстр власти/Пер. с нем. Р. Каралашвили, пер. с франц. Т. Емельяновой, Г. Дилегентского. М.: Алгоритм, 2009. 240 c.
- Кузнецов М.М. Интернет как провокатор и инициатор сетевого подхода//Влияние Интернета на сознание и структуру знания. М.: ИФ РАН, 2004. С. 190-194.
- Новоженина О.В. Интернет как новая реальность и феномен современной цивилизации//Влияние Интернета на сознание и структуру знания. М.: ИФ РАН, 2004. С. 195-215.
- Derrida J. Echographies of Television. Cambridge: Polity Press, 2002. 184 p.