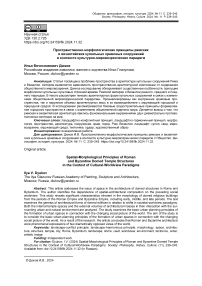Пространственно-морфологические принципы римских и византийских купольных храмовых сооружений в контексте культурно-мировоззренческих парадигм
Автор: Дюков И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме пространства в архитектуре купольных сооружений Рима и Византии. Автором выявляется зависимость пространственно-архитектурной композиции от содержания общественного мировоззрения. Данное исследование обнаруживает существенные особенности, присущие морфологии купольных культовых строений времен Римской империи и Византии раннего, среднего и позднего периодов. В тексте рассмотрен генезис архитектурных форм купольных сооружений в связи с изменением общественной мировоззренческой парадигмы. Проанализированы как внутренние храмовые пространства, так и наружные объемы архитектурных масс в их взаимодействии с окружающей городской и природной средой. В исследовании рассматриваются базовые градостроительные принципы формирования городских пространств в связи с изменением общественной картины мира. Делается вывод о том, что римская и византийская архитектура явились феноменальными выражениями двух диаметрально противоположных взглядов на мир.
Ландшафтно-конфликтный принцип, ландшафтно-гармоничный принцип, морфология, пространство, архитектура, сооружение, храм, город, рим, византия, ландшафт, купол, свод, мировоззрение, окружающая среда, тектоника, ордер, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/149146685
IDR: 149146685 | УДК: 130.2:726 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.32
Текст научной статьи Пространственно-морфологические принципы римских и византийских купольных храмовых сооружений в контексте культурно-мировоззренческих парадигм
Введение . Проблема соотношения телесных масс и пространства является одной из ключевых в рассмотрении композиции архитектурных сооружений. Однако вопрос об отношении телесности и пространства в связи с природной средой и в зависимости от общественного мировоззрения все еще не получил всестороннего рассмотрения в науке и продолжает оставаться открытым.
Архитектура и градостроительство, а также то, в каком отношении они находятся к природному пространству, являются феноменальным выражением внутреннего содержания социума. В исследовании ставилась цель рассмотрения базовых архитектурных и градостроительных принципов формирования пространств в связи с изменением общественного мировоззрения от римского антропоцентризма к византийскому теоцентризму. Задачей выступало определение существенных особенностей, присущих пространственной композиции купольных культовых строений времен Римской империи и Византии.
Римский принцип формирования архитектурного пространства . Данный принцип оказал влияние на становление всей последующей практики европейского зодчества. Само архитектурно-градостроительное наследие Рима явилось продолжением эллинистической традиции организации городского пространства. Вместе с тем римская архитектура, равно как и градостроительство, представляет собой отрицание классического греческого ландшафтно-гармоничного принципа формирования как городской среды, так и архитектуры, и выдвижение новых оснований для этого.
Римская архитектура эпохи принципата представляет собой пример регулярного расположения объемов в пространстве (Бунин, 1953: 90). Основывая новый город, римлянин выбирал под него плоское, ровное место, дающее возможность строить быстро и располагать здания в регулярном, «армейском» порядке. Города, возведенные таким образом, получали однотипный вид военного лагеря с неизменно плоским силуэтом и прямолинейным расположением улиц с центральными Кардо и Дикуманус Максимус.
Доминирующими сооружениями в городах императорской эпохи были амфитеатры, то есть общественные здания светского характера. Неизменную роль в жизни и образе всякого римского города играли общественные бани – термы. Культовые сооружения хотя и возводились на центральных площадях и форумах, но имели не такое значение для образа города, как в классической Греции, где храм превалировал над всем.
Общий принцип расположения архитектурных сооружений носил интерьерный характер – площади плотно замыкались стенами с экседрами и нишами, галереями с колоннадами или фасадами зданий общественного назначения – храмов, судов, торговых лавок. Плотную застройку форумов ордерными галереями дополняли во множестве расположенные здесь изваяния богов и императоров. Улицы, плотно обстроенные инсулами и жилыми домами, представляли подобие коридоров. А.Ф. Лосев приводит слова Г. Кашница фон Вайнберга, согласно которому «пространство здесь не излучается от телесных фигур, но охвачено телом и, таким образом, оформлено»1.
Свободно стоящий архитектурный объем в пространстве природной среды – излюбленный прием классического градостроительства греков – не был близок римскому художественному вкусу (Бунин, 1953: 97). В архитектуре Рима при тесной застройке доминировал фасадный принцип расположения зданий вне зависимости от их назначения. Город в целом имел четко очерченные границы, отделяющие мир людей от внешнего мира природы.
План самого Рима, впрочем, не является показательным для римского градостроительства, он начал складывался задолго до возникновения империи, и общие принципы архаической нерегулярной структуры города остались неизменными. Однако центр Рима с его регулярными, замкнутыми форумами и плотной застройкой, конечно, отражал художественное видение римлян времен принципата.
Культовые сооружения Рима, представляя собой смесь греческого периптера и этрусского храма с его выраженной фасадностью, не имели столь впечатляющего вида, как общественные светские строения, наподобие Колизея или терм Диоклетиана. Исключения составляли храм «Венеры и Ромы», построенный императором Адрианом в 135 г., и Пантеон, сооруженный императором Траяном и законченный тем же Адрианом в 118–128 гг. Что касается первого храма, то кроме колоссальных размеров, снаружи он мало чем отличался от традиционных псевдоперип-терных культовых сооружений Рима. Однако купольная ротонда Пантеона являет собой нечто новое в храмовой архитектуре империи.
Своей круглой в плане формой и портиком сооружение, подобно мавзолею Августа, восходит к этрусским погребальным тумулусам. При внушительных размерах (высота – 43,3 м) Пантеон, расположенный на низком плоском основании рельефа с близко примыкающей застройкой и в стороне от городского центра (ядром которого являлся Колизей), своим объемом не мог активно участвовать в художественном образе города. Его плоский свод мало что добавлял к распластанному силуэту столицы империи.
Вытянутый двор перед «Храмом всех богов» направлял взгляд зрителя на большой ордерный портик, перекрывающий собой главный объем и тем формировавший впечатление фасад-ности. Двор мало содействовал выявлению крупной цилиндрической формы Пантеона. Смело решенная, мощная, она оказалась как будто не на своем месте, осталась неоцененной в своей возможности. В одно время с Пантеоном на берегу Тибра был возведен мавзолей Адриана, также имеющий цилиндрическую форму. Расположение сооружения, посвященного личности императора, открытого к пространству Тибра, несравненно выразительнее и сильнее по своему участию в образе города, чем «всебожественный» храм, скрывающийся в городской застройке.
Внутри Пантеон представляет собой скорлупу, охватывающую присутствующего в ней единым нераздельным пространством, лишенным динамики. Взгляд зрителя блуждает в нем, скользя по огромному кессонированному своду и раскрепованным стенам, не находя для себя места опоры. Интерьер Пантеона представляет собой плотную «телесную» оболочку. Немногие ниши и колоны, расположенные по радиусу стен Ротонды, мало содействуют пространственной разрядке сооружения. В архитектуре Византии мы никогда не встретим подобной однородности стен. Находясь внутри Пантеона, ощущаешь его телесность, но будто вывернутую внутрь. Это впечатление усиливают потолочные кессоны, членящие свод купола на квадратные ячейки, создающие видимость предельной его плотности и тектоничности. Окулюс – световое отверстие в куполе – никоим образом не разряжает напряжения однородной сферической оболочки храма.
Подобно тому как город образовывал четкую телесную структуру, отграниченную от окружающей природы, монументальный объем Пантеона формировал собственную самодостаточную оболочку. Однако именно римские архитекторы открыли монументальное купольное сооружение, а значит, и подкупольное пространство, тем самым сделав шаг в преодолении давлею-щей телесности в античной архитектуре. Впрочем, пространство оказалось скованным и запертым, как в сосуде, теперь оно само наделялось телесностью.
Купольные сооружения были неотъемлемой частью римской архитектуры, сводчатые перекрытия часто использовались в строительстве, например, терм и мавзолеев. Одним из них является мавзолей Диоклетиана, входящий в состав дворца, основанного императором в качестве резиденции и находящегося на территории современного Сплита. Дворец, построенный к 305 г. по всем требованиям римского градостроительства, находился на выровненном основании и был вписан в геометрически четкий прямоугольник. Двумя пересекающимися улицами вся территория поделена на четыре равные части. Силуэт резиденции плоский, разнообразие в него вносили разве что крепостные башни, едва возвышающиеся над двадцатиметровой стеной, и невысокий купол мавзолея.
Заключаем, что римская архитектура вслед за римским городом в своей телесности и при отрыве от окружающего природного пространства явилась выражением антропоцентрического, квазирелигиозного общественного мировоззрения.
Византийский принцип формирования архитектурного пространства . Византия в религиозном и в общекультурном плане явилась отрицанием Римской империи. В отношении морфологии города она также не стала преемницей предшествующей традиции. Все стало другим: местоположение и планы городов, размещение и принцип формирования архитектурных сооружений, а также пространственная среда внутри них.
В 324 г. император Константин Великий закладывает на месте города Виз а нтия новую столицу Римской империи – Константинополь. Второй Рим, основанный менее чем через двадцать лет после завершения строительства дворца в Сплите, явил революцию в римском градостроительстве и, по существу, утвердил новый принцип формирования городского пространства – византийский. Здесь в первые проявились черты, которые были свойственны градостроительству и архитектуре Византии на протяжении всей ее истории.
Первоначально это выбор самого места для новой столицы. Раньше римляне, как было показано выше, предпочитали основывать города на равнинных местах, вне связи с окружающей природой. Теперь для этого было выбрано красивое, живописное место с мягким рельефом и в окружении природы, сочетающее море и лес. Современники не раз выказывали восторг по поводу местоположения столицы Византии (Гийу, 2007). В дальнейшем всем городам Византийской империи будет присуща эта черта – органичная связь сооружений с окружающим ландшафтом.
Следующим важным моментом, характеризующим византийское градостроительство и проявившимся уже на начальном этапе формирования Константинополя, является план города, который согласуется с живым рельефом местности. Хотя в центральной его части заметен рациональный подход к расположению строений и форумов, однако никакой принципиальной установки на военный лагерь с пересечением главных улиц в центре нет. План решен гармонично, согласуясь с естественным рельефом земли. Жилая застройка в Константинополе приобретает весьма живой характер, город был наполнен садами и виноградниками, соседствующими с мраморными дорогами и портиками.
Силуэт, а значит, образ города, относительно римского, изменился решительно – теперь он перестал быть плоским и невыразительным. Город, согласуясь с естественным рельефом местности, получил гармоничный и величественный вид, в котором центральное место принадлежало храму. Теперь он не был подобен монолитному телу и не противостоял окружающей его природе, а органично дополнял ее, участвовал в ней. Этот ландшафтно-гармоничный градостроительный принцип явился в какой-то мере возрождением греческого подхода к формированию города в классический доэллинистический период. Но и здесь налицо отличие – греческие храмы-периптеры являли собой скульптурную телесность, в то время как византийский храм внешне становился частью ландшафта, не выделяясь на фоне природы и дополняя ее.
Храм Святой Софии в Константинополе, воздвигнутый в царствование императора Юстиниана Великого в 532–537 гг., явился отрицанием фасадного принципа, присущего архитектуре Рима. Теперь объем сооружения, расположенного на открытом месте и обозреваемого со всех сторон, воспринимался не фасадными частями, а целиком в окружающем его пространстве. Храм стал иерархической вершиной в структуре городской застройки, превосходя все остальные сооружения, включая дворцы, термы и ипподромы. София, а вместе с ней и остальные храмы империи, своим покатым силуэтом представляет продолжение ландшафта. Она не только не противоречит линиям природы, но и органично включена в ее образ, уподобляясь горе со входом, ведущим в сакральный мир Церкви.
В архитектуре Византии (например, в Церкви св. Ирины VI в.) все еще сказываются римские традиции зодчества, что выражается в первую очередь в колоссальных размерах. Но храмовые объемы, будто вырастающие из самой почвы и связанные со всей окружающей средой, стали отрицанием Рима. У византийского храма нет выраженного доминирующего фасада, как нет его у холма или горы. Он не имеет внешних украшений. Здесь действует силуэт, продолжая и развивая естественный образ окружающего мира природы. Впоследствии, несмотря на трансформации в конструкции и масштабе, вид византийского храма как части природной возвышенности с покатым силуэтом низкого купола мало изменится.
Внутренний вид константинопольской Софии «уподобляется пространству природы»1, это целостный просторный мир, наполненный воздухом и искрящимся светом, исходящим из множества небольших оконных проемов и отраженным цветной смальтой мозаик. Каскад, образуемый системой уплощенного купола на очень низком барабане с принимающими распор полусводами, насыщен мозаичными росписями, дематериализующими плотность сооружения. Взгляд зрителя скользит по внутренней поверхности скорлупы свода, покоящегося на легком аркатурном поясе, пропускающем через частые мелкие проемы арок свет и создающем впечатление парения купола. Плоскости стен раскреплены и облицованы плитами цветного мрамора. Колонны, скрывающие за собой боковые нефы, усиливают эффект воздушности и всепроницающего пространства.
В отличие от Пантеона, купол здесь не производит впечатления тяжелой телесной массы, наоборот, он легок и воздушен. И абсиды, и паруса свода, и полукупола, и парящий купол схватываются взглядом сразу как единое вместилище пространства, разряженное верхним и нижним рядами колонн, отделяющих хоры и боковые нефы от основного пространственного объема. Видимо, при создании храма ставилась цель преодоления тектоники и телесности материала; невозможная постановка проблемы для предшествующего античного представления об архитектуре, где телесность являлась основой эстетического восприятия.
Однако в другом памятнике того же времени – Церкви св. Ирины (вначале она называлась – Храмом Святого мира) – при внешнем сходстве с Софией, принципы римской архитектуры проявлены отчетливее. Внутренняя оболочка сооружения упруга и напряженна. Так как свод купола выше поднят на барабане и менее плоский, а также отсутствует система полукуполов, пространство не имеет выраженной динамики, присущей Софии.
Зато снаружи Церковь св. Ирины в большой степени сохранила изначальный вид, хотя и не избежала правок и переделок. И все-таки после османского завоевания храм не получил минаретов, появление которых возле Софии сильно исказило пространственную композицию и ослабило производимое впечатление. В ней нет массивных контрфорсов, также исказивших морфологию св. Софии. Немаловажно и то, что ее фасады не оштукатурены.
Уже на раннем этапе зодчие Византии закономерно отказываются от применения ордера. Он являлся отражением не только античного представления о мировой упорядоченности и гармонии, но и выражал телесную организацию космоса. Подобная структура неизбежно вступила бы в противоречие с пространственной организацией храмовой среды и вызывала бы ощущение неопределенности. Ордерный принцип организации объемов сковал бы пространство, подчинил бы его вещественной тектонике. В связи с отказом от ордера правильно говорить не об отрицании вещественности как таковой, а о полном ее переосмыслении в русле христианского мировоззрения. Теперь телесность в церковном искусстве мыслится преображенной. Византия не отказалась от телесности и усиление значения пространственного фактора внутри храма не отменило материальности объемов.
В средневизантийской архитектуре прослеживается усиливающееся влияние восточных провинций с их телесностью масс. К X в. в константинопольском строительстве распространение получает крестово-купольный тип храма1, внутреннее пространство которого поделено столбами, поддерживающими купол и неизбежно вносящими элемент тектоники. Теперь в храмовом пространстве доминирует иерархический принцип. Пространство делится на центральную подкупольную часть и подчиненные ей части нефов, которые не отделены совсем от остального пространства и являются важнейшим фактором всей композиции интерьера. Пространство храма, теряя динамику, присущую архитектуре раннего периода (унаследованную от базилик), становится пластичным и получает вертикальную направленность, что также выразилось в увеличении вертикального направления купольного барабана, который будто погружал купол в колодец. Не столь большие пространства храмов X–XII вв. как будто указывают на углубленносозерцательное богословие св. Симеона Нового Богослова, тогда как огромный космический объем Софии заставляет вспомнить мистицизм св. Дионисия Ареопагита. Эти моменты, свойственные средневизантийскому периоду, мы находим в церкви X в., Святых Апостолов в Афинах; наружные формы которого, в сравнении с ранним периодом, не так велики (впрочем, как и у всех сооружений этого времени). Видный исследователь византийского искусства Д.Т. Райс отмечает, что «при возведении церковных зданий в средневизантийскиий и более поздний периоды особое значение придавалось окружающему пейзажу» (Райс, 2002: 92).
Нередко архитектурные элементы – колонки, оконные проемы и ниши – становятся уменьшенными в масштабе, как, например, в Церкви св. Феодора в Константинополе (Молла-Гюрани-Джами) XII в. Во внешнем облике храмов все эти элементы призваны разрядить стену сооружения.
К позднему периоду храмы становятся как будто менее структурированными, кладка из кирпича и камня с толстым слоем раствора несколько грубовата и приближает фактуру сооружений к природной. Экстерьеры палеологовской архитектуры с включением в нее элементов керамики и узорной кладки из кирпича разряжали поверхность стены, усиливая впечатление связи с пространством, а также «органично вписывая их в окружающую городскую среду» (Колпакова, 2004: 89).
При сравнении сооружений палеологовской Византии с памятниками того же времени в странах, находящихся под культурным влиянием Константинополя, можно отметить тенденцию к тому, что образы храмов, созданных, например, в Сербии или на Руси, имеют более стройные пропорции, гладкую поверхность стен и внешне отчетливо выраженную телесную структуру. (Это замечание не касается Болгарии, где тенденция к живописности внешних форм была чуть ли не сильнее, чем в Константинополе.)
В поздний период Византийской истории наблюдается повышенный интерес к светской дворцовой архитектуре, с одной стороны, и продолжение строительства храмов – с другой. Последние независимо от их типа (крестово-купольный, базиликальный, смешанный, триконх и т. п.) сохраняли выраженную центральную часть и получали в плане асимметричную структуру, как, например, Церковь монастыря Хора XIV в. Внутреннее пространство, поделенное на небольшие помещения, становится текучим и пластичным.
В последний период империи, после тяжелых военных потрясений, градостроительство Византии характеризуется доведением до совершенства черт, возникших еще на раннем этапе ее существования. Население в городах значительно сокращается, уменьшаются масштабы строительства и фактические размеры церквей.
Выражением нарастающего духовного синкретизма эпохи явилась архитектура города Ми-стры, столицы Мореи. При большом разнообразии храмовых построек и монастырей одним из центральных сооружений города явился также и дворец Деспотов. Мистра, как и прочие города Византии, не получила заранее продуманного плана – город со всеми своими постройками, включая храмы, дворцы, особняки знати и простые жилища, расстилался по склону горы, согласуя свои очертания с существующим ландшафтом.
В Мистре не найти прямой тропинки, не говоря уже об организованной системе прямолинейных улиц и площадей. Ее пространственная композиция пластична и живописна. Сказанное не означает, что строительство здесь велось стихийно, иррационально. Мистра имеет выраженную структуру (делящую ее на Верхний, Средний и Нижний город) и иерархию, главное место в которой продолжает принадлежать храмам.
Исторические перипетии наложили печать на образ города: в его архитектуре обнаруживается влияние франков. Западные европейцы строили, как правило, на вершинах холмов, тем самым утверждая свое доминирующее положение по отношению к окружающему пространству, в то время как византийцы предпочитали основывать города и монастыри на склонах (Полевой, 1973: 92). В середине XIII в., построив на вершине горы крепость, именно франки выступили основателями Мистры. Уже через 13 лет, перейдя во владение византийцев, город стал развиваться по принципам греко-византийского градостроительства.
Мистра стала зримым выражением сложных мировозренческих процессов, охвативших византийцев в последние десятилетия существования остатков империи. В расположении самого города с франкской крепостью на вершине и дворцом в центре, а также в его сакральном зодчестве (например, архитектура монастыря Пантанасса) проявились черты культурного влияния западной Европы.
Вместе с тем, как некогда – на излете существования Римской империи – в постройке Дио-клетианова дворца в Сплите последовательно выразился ландшафтно-антагонистический принцип формирования городской среды, теперь, через тысячу лет, к концу существования Византийской империи, в Мистре нашел свое проявление присущий Византии ландшафтно-гармоничный принцип организации пространства (Большаков, Дюков, 2019).
Византийский храм, как и тысячу лет назад, не выпадал из природной среды, он составлял единое целое с картиной природы и города как всем своим силуэтом, так и фактурой стен (кирпичная и каменная кладка оставались открытыми, неоштукатуренными). Внешняя структура храма, включая детали и пестрый цвет стен, растворяла его массы в окружающей среде.
Внутри «ландшафт» византийского храма ясно организован в особый символический мир – мир Церкви. Центром в нем всегда остается подкупольное пространство, которое охватывает присутствующего в нем человека, направляя его ум к Небу, символом которого выступает украшенный мозаикой купол. В византийском храме всегда присутствует пространственная иерархия, в связи с чем все примыкающие помещения находятся в зависимости от центрального объема и пространственно открыты к нему. Тогда как внешне храм подчинялся окружающей его природе, внутри него формировалась среда, в которой все участвовало в реконструкции и преображении поврежденного мира.
Заключение . На смену римскому статичному принципу формирования подкупольного пространства пришло динамичное, а затем и пластичное пространство византийских храмов. Во внешних очертаниях сооружений также произошли изменения – как в самом расположении, так и в наружной структуре. В Риме купольное сооружение наделялось тектоничной телесностью, вместе с тем плотно включенной в систему городской застройки, из которой оно могло выделиться разве что фасадом. В византийской архитектурной практике, напротив, главное сооружение – храм, он обнаруживал себя полнотой объема; однако линейно, пластически и фактурно подчинялся среде, представляя собой дополнение к существующему ландшафту. Сам византийский город оказывался органично вписанным в природную картину, что коренным образом отличало его от города, основанного римскими градостроителями. (Дюков, 2024)
Византийская архитектура в своей пространственности и связи с окружающей природной средой явилась выражением теоцентрического, религиозного общественного мировоззрения.
В заключение отметим, что применение диахронического метода в данной статье позволило выявить динамику трансформации форм культовых купольных сооружений и их генезис в контексте мировозренческих парадигм Рима и Византии. На основе структурно-функционального метода были выявлены связи и отношения городов с пространством ландшафта, а также архитектурных сооружений с внешним по отношению к ним пространствам города и окружающего ландшафта. На основе формально-стилистического анализа и использования комплексно-междисциплинарного подхода мы приходим к выводу о том, что отличие византийских городов и строений от римских не является случайностью, а прямо вытекает из различного взгляда на мир. Архитектурные формы явились феноменальными выражениями двух диаметрально противоположных взглядов на мир, дифференцирующихся вследствие того, что в основание мироздания, согласно одному, помещается личность человека, согласно другому – его Причина, Бог.
Список литературы Пространственно-морфологические принципы римских и византийских купольных храмовых сооружений в контексте культурно-мировоззренческих парадигм
- Большаков В.И., Дюков И.В. Социально-культурная и сакральная взаимосвязь предметов искусства и пространства // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 1-1. С. 75-84. EDN: CBLYKW
- Бунин А.В. История градостроительного искусства: в 2 т. М., 1953. Т. 1. 532 с.
- Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2007. 545 с.
- Дюков И.В. Город. Пространство. Мировоззрение. М.; СПб., 2024. 152 с.
- Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб., 2004. 524 с. EDN: QXPSJD
- Полевой В.М. Искусство Греции: в 3 кн. М., 1973. Кн. 2: Средние века. 349 с.
- Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002. 252 с.