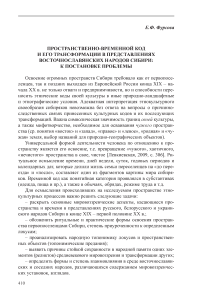Пространственно-временной код и его трансформации в представлениях восточнославянских народов Сибири: к постановке проблемы
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521904
IDR: 14521904
Текст статьи Пространственно-временной код и его трансформации в представлениях восточнославянских народов Сибири: к постановке проблемы
Освоение огромных пространств Сибири требовало как от первопоселенцев, так и поздних выходцев из Европейской России конца XIX - начала ХХ в. не только отваги и предприимчивости, но и способности переносить этнические коды своей культуры в иные природно-ландшафтные и этнографические условия. Адекватная интерпретация этнокультурного своеобразия сибиряков невозможна без ответа на вопросы о причинноследственных связях принесенных культурных кодов и их последующих трансформаций. Важна символическая значимость границ своей культуры, а также мифотворчество, необходимое для осваивания чужого пространства (ср. понятия «восток» и «запад», «правое» и «левое», «родная» и «чужая» земля, выбор названий для природно-географических объектов).
Универсальной формой деятельности человека по отношению к пространству является его освоение, т.е. превращение «чужого», хаотичного, «нечистого» пространства в свое, чистое [Левкиевская, 2009, c. 306]. Ритуальное осмысление времени, дней недели, суток, годовых периодов и календарных дат, которые делили жизнь семьи переселенцев на «до переезда» и «после», составляет один из фрагментов картины мира сибиряков. Временной код как понятийная категория проявлялся в субстантивах (одежда, пища и пр.), а также в обычаях, обрядах, режиме труда и т.д.
Для осмысления происходивших на исследуемом пространстве этнокультурных процессов важно решить следующие задачи:
-
- раскрыть основные мировоззренческие аспекты, касающиеся пространства и времени в представлениях русского, белорусского и украинского народов Сибири в конце XIX – первой половине XX в.;
-
– обозначить ритуальные и практические формы освоения пространства первопоселенцами Сибири, степень приуроченности к определенным локусам;
-
- проанализировать народную топонимику локусов и пространственных объектов (топонимические предания);
-
- выявить причины стойкой сохранности в народной памяти одних элементов (реликтов) средневекового мировоззрения и трансформации других;
-
- определить формы и степень взаимовлияния в среде восточнославянских и соседних народов, различающихся содержанием мировоззренческих установок, взглядов.
В этнографической литературе под мировоззрением обычно понимают систему взглядов на объектный мир и место человека в нем, а также обусловленные ими позиции людей, их взгляды, убеждения, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение формируется, «выплавляется» в процессе исторического развития этноса, являясь показателем зрелости общества. Традиционное мировоззрение характеризует общее понимание мира (т.н. «этническая картина мира»), определяет религиозно-нравственную, эстетическую, познавательную ориентацию людей конкретного этноса. Оно основывается на традиционном опыте, порождаемом условиями жизни и передаваемом из поколения в поколение. Это базовые, глубинные элементы традиционной духовной культуры, включающие комплекс представлений (убеждений) и комплекс знаний (рациональных и иррациональных).
Мифологическое мировоззрение не только предоставляло знания о происхождении мира и этноса, пронизывало всю народную культуру, но и служило оправданием существовавшего образа жизни людей. Отдельные элементы мифологического сознания русского средневековья в качестве реликтов дожили до недавнего времени.
Религиозное мировоззрение выражается в эмоционально-образной форме и включает веру и связанные с ней обычаи, нравственные идеалы, народные религиозные концепции зарождения и начала жизни, праздничного календаря и пр.
Комплекс знаний включает рациональные и иррациональные знания и умения в области повседневной жизни (народную топонимику, локативы, атрибутивы, календарь, медицинскую практику, метеорологию, способы измерения времени и пр.). Знания служили целям ориентации этноса или отдельного человека в окружающей природной и социокультурной реальности.
Характеристики пространственно-временных структур в мифологическом сознании содержатся в трудах философов и культурологов М.М. Бахтина, Г.Д. Гачева, Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, М. Элиаде, А.Ф. Лосева и др. Важно отметить труды т.н. «полесской этнолингвистической группы» под руководством Н.И. Толстого. В конце ХХ в. исследования по знаковым системам активно публиковались учеными Института славяноведения и балканистики РАН [Толстой, Толстая, 1992; Толстая, 1995; Седакова, 2003 и др.]. Исследователи обычно рассматривают пространство в системе семантических оппозиций «свой - чужой». В качестве параметров этой универсальной категории называются оппозиции «восток – запад», «правый – левый», «север - юг», «центр - периферия». В связи с этим одни части пространства воспринимаются как «свои», позитивные, безопасные для жизни и здоровья человека, а другие - как «чужие», негативные, угрожающие благополучию. Вопросы иерархической организации пространства, его трех- или двухчастное деление поднимались этнологами, лингвистами и филологами [Иванов, Топоров, 1965; Неклюдов, 1977; Байбурин, 1985; Топоров, 1988; Левкиевская, 2009 и пр.]. Воззрения на мир через осознание, оценку истори- ческих событий и деятельность российских государственных деятелей русских крестьян рассматривает этнолог А. Буганов [1997, 2000].
Второй основной категорией традиционной картины мира, сочетающей мифологическое (циклическое) и историческое (линейное) восприятия, является время . «Природное» время включает солнечные, лунные, вегетативные циклы и календарь, противостоит «жизненному» времени, включающему также «обрядовую» составляющую [Толстая, 1995]. Категории времени рассматривались отечественными и зарубежными исследователями в плане его семантики и включенности в систему ценностей славянской народной культуры, в качестве одного из параметров структуры традиционных обрядов [Kupiszewski, 1974; Гуревич, 1984; Толстая, 1991 и др.]. По материалам народов Европейского Севера ученые Уральского отделения РАН попытались реконструировать генезис и эволюцию основных фрагментов мифопоэтической картины мира [Традиционное мировоззрение и духовная культура…, 1996; Конаков, 1996].
По сибирским материалам внимание исследователей сосредотачивалось в основном на раскрытии традиционного мировоззрения финно-угорских, тюркских и коренных малочисленных народов Сибири [Мировоззрение финно-угорских народов..., 1990; Мировоззрение народов Западной Сибири…, 1985; Традиционное мировоззрение народов…, 1996; Данилова, 2011; Бурнаков, 2012 и др.]. Мировоззренческие аспекты культуры славянских народов, прежде всего такие актуальные для Сибири представления о пространстве, как «родная земля», родина, «запад-восток», географические объекты и локусы, фактически не рассматривались. Пространственно-временной код как система знаков, функционирующих в традиционной календарной и семейной обрядности, так же не были в поле зрения исследователей, за некоторым исключением [Любимова, 2004]. Рассматривались отдельные мировоззренческие аспекты народного художественного творчества и орнаментики [Русакова, 1989; Фурсова, 2000, 2006], народной медицины [Островская, 1975].
Таким образом, мировоззренческие комплексы славянских народов Сибири не определены как целостные системы с учетом всех семантических и структурных связей в исторической динамике. Этнографическая разработка темы «Трансформация народного мировосприятия крестьян Сибири» не находится на начальной стадии, но весьма далека от завершения. Можно предположить, что рассмотрение мировоззренческих вопросов будет стимулировать дальнейшее этнографическое изучение народов Сибири, станет учитываться при программировании взвешенной региональной и национальной политики.