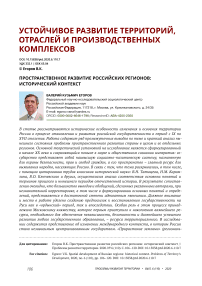Пространственное развитие российских регионов: исторический контекст
Автор: Егоров Валерий Кузьмич
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов
Статья в выпуске: 6 (110), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются исторические особенности изменения и освоения территории России в процессе становления и развития российской государственности в период с IX по XVII столетие. Работа содержит ряд промежуточных выводов по теме и краткий анализ нынешнего состояния проблемы пространственного развития страны в целом и ее отдельных регионов. Основной теоретической установкой на исследование является сформулированный в начале XX века и сохраняющийся поныне в науке и общественном сознании императив: государство представляет собой наивысшую социально-политическую систему, назначенную для охраны безопасности, прав и свобод граждан, а его пространство - главный ресурс для выживания народов, населяющих Россию. В связи с тем, что тема раскрывалась, в том числе, с помощью цитирования трудов классиков исторической науки: В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского и других, осуществлялся анализ соответствия основных понятий и терминов прошлого и нынешнего периодов отечественной истории. В результате сопоставления очевидно, что большинство выводов и обобщений, сделанных указанными авторами, при незначительной корректировке, в том числе в формулировании основных понятий и определений, представляется в достаточной степени адекватным нынешним. Должное внимание и место в работе уделено созданию предпосылок к восстановлению государственности на Руси как в «ордынский» период, так и впоследствии. Особая роль в этом процессе принадлежала Московскому княжеству, которое первым приступило к накоплению важнейшего ресурса, необходимого для обеспечения независимости, безопасности и дальнейшего успешного развития любого государственного образования, - ресурса территориального. В исследовании содержится представление об изменении международного контекста, в котором Россия стала независимым централизованным государством. «Прирастание землями» (региональное развитие) рассматривается как одно из необходимых условий социально-экономического развития России и в то же время повышения ее геополитического статуса, что особенно характерно для XVII века с его ярко выраженным интенсивным характером территориально-экономического развития и укреплением геостратегического положения страны. В завершение дается краткая характеристика современного положения на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, для которых характерна критически нарастающая неравномерность регионального развития.
Регион, ресурс, геополитика, государство, развитие, потенциал, территория, условия
Короткий адрес: https://sciup.org/147225369
IDR: 147225369 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2020.6.110.7
Текст научной статьи Пространственное развитие российских регионов: исторический контекст
ное развитие) рассматривается как одно из необходимых условий социально-экономического развития России и в то же время повышения ее геополитического статуса, что особенно характерно для XVII века с его ярко выраженным интенсивным характером территориально экономического развития и укреплением геостратегического положения страны. В завершение дается краткая характеристика современного положения на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, для которых характерна критически нарастающая неравномерность регионального развития.
Регион, ресурс, геополитика, государство, развитие, потенциал, территория, условия.
Развитие регионов – составляющей части государственной структуры, их прогресс или стагнация, создание, реформирование, ликвидация и т. д. напрямую зависят от государства, а по закону обратной связи его сила и слабость, внутренняя стабильность и перспективы, в том числе геополитического свойства, во многом определяются в регионах. Гармония во властных отношениях государства и общества невозможна при отсутствии таковой в регионе, о чем свидетельствуют нередкие протестные явления в стране в целом. Однако рождаются не только собственно протесты, но и ожидания зримых усилий для гармонизации отношений регионов и государства, представителей власти и простых граждан.
Известный русский публицист Л.А. Тихомиров в своей работе «Монархическая государственность», вышедшей в 1905 году, цитирует историка и правоведа Б.И. Чичерина, утверждавшего: «Идея государства вытекает из самой глубины человеческого сознания. В течение всех исторических тысячелетий народы всевозможных племен и степеней развития своим глазомером, умозаключением и опытом всегда и повсюду были приводимы к одной идее. Мы ее можем, стало быть, рассматривать, как политическую аксиому, подобно тому, как в математике и логике аксиомы суть не что иное, как формулировка всеобщего одинакового впечатления. Эта аксиома гласит, что в государстве люди находят высшее орудие для охраны своей безопасности, права и свободы» [1, с. 37].
Наш современник, ученый-обществовед С.Н. Бабурин, уделяя внимание связи между государственной властью и территорией, пишет, ссылаясь, в том числе, на современные исследования: «Объективно представляя собой пространственные пределы осуществления государственной власти, территория закономерно ассоциируется с могуществом и величием государства, либо с его слабостью и уязвимостью. Не случайно именно пространство называют главным ресурсом для выживания народов, населяющих Россию» [2, с. 11].
Нынешнее состояние нашего государства, крупнейшего в мире по размеру территории, сложного по национальному составу, обремененного гигантской, имеющей общемировой масштаб ответственностью геополитического и геостратегического характера, предполагает и настоятельно требует стабильности в отношениях между государством и обществом, поступательного развития экономики и обеспечения гарантий упомянутых выше «безопасности, права и свободы». Материальной основой выполнения названных условий всегда была и впредь должна оставаться устойчиво и стабильно развивающаяся территория государства в целом и все составляющие ее структурные единицы – регионы в частности. А идеологическим императивом для поддержания единства российского народа, бесспорно, является и должно впредь оставаться сохранение исторической памяти об истоках нашей государственности, а также сложном процессе ее становления и развития, в том числе – территориального.
Российским государством за весь период его существования накоплен огромный и в высшей степени разнообразный опыт выживания и развития в различных исторических условиях, формирования принципов сосуществования в мировом сообществе и стабильности внутри страны. Отечественные историки В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, Р.И. Костомаров и другие по-разному определяли особенности, прежде всего, самых ранних периодов становления древнерусского государства (IX–XII вв.). Вместе с тем многие выводы и обобщения, сделанные ими, при незначительной адаптации, в том числе в формулировании основных понятий и определений, представляются вполне адекватными нынешним ситуациям в стране и мире.
В нашей статье в качестве основного фактологического интервала принят период с IX по XVII век. Как исходный тезис для учета в дальнейшей работе принято, что с конца IX столетия Древняя (Киевская) Русь наряду с «собиранием земель» пережила сложный период консолидации власти. В середине XI века, после смерти в 1054 году Ярослава Мудрого, согласно его завещанию области (земли) Киевской Руси были поделены между его сыновьями: «Изяслав княжил в Киеве, Новгороде, к югу и западу от Киева, Святослав – в Чернигове, Рязани, Муроме, Тмутаракани и в земле вятичей, Всеволод – в Переяславле, Ростове, Суздале, Белоозере и в Поволжье, Вячеслав – в Смоленске, Игорь – во Владимире-Волынском. Начало великого княжения Изяслава Ярославича» [3, с. 23].
Для дальнейшего изложения уместно привести ссылки на некоторые пояснения к используемым понятиям с целью корреляции их с современными терминами. В своей работе, посвященной административнотерриториальному делению Древней Руси, В.О. Ключевский дал целый ряд толкований историзмов. «Земли – это древние области, образовавшиеся под руководством старых торговых городов Руси… Волость – это княжество – одно из тех княжеств, на которые, постоянно переделяясь, делилась Русская земля в потомстве Ярослава… Область есть производный термин от слова власть, «об-власть» означает округ, на который простирается эта власть (предлог «об» означает окружность). Но иногда эти термины менялись значением: «власть» означала область, пространство, владения, а «область» значила право владения» [4]. К настоящему време- ни в общественных науках, публицистике, общественно-политической лексике сравнительно недавно среди прочих закрепились понятия «регион» и «регионализация». В современном «Большом толковом словаре русского языка» регион (от лат. region – область) – обширный район, группа соседствующих стран или территорий, объединенных по каким-либо общим признакам; регионализировать – 1) разделить – разделять на регионы; 2) передать – передавать в регионы (о правах, полномочиях) [5, с. 1110].
С учетом определенных исторических особенностей развития Древней Руси и их отличий от современных реалий представляется возможным с достаточным основанием полагать, что в древнерусском государстве в период его становления проходил сложный и активный процесс территориального развития, сопровождаемый, особенно по окончании княжения Ярослава Мудрого, системной регионализацией территории государства (см. выше: «переделяясь, делилась Русь» ). Существенное место в процессе становления Руси занимал ее неоднозначный опыт взаимоотношений с другими государствами, прежде всего сопредельными. В первой трети своей истории Древняя (Киевская) Русь, представлявшая собой конгломерат вначале княжеств-волостей, а к XIII веку княжеств-уделов, самоутверждалась геополитически, формируя общую территорию, структуру торгово-экономических связей и внедряя после крещения Руси в народное сознание объединительную идеологию православного христианства.
Древняя Русь не была исключением среди других государственных образований Восточной Европы, выступала как субъектом, так и объектом в освоении (покорении) новых для нее земель с использованием силы, нового знания или новой идеологии в целях пространственного развития. Еще в начале ХХ века, имея в виду общецивилизационный, вневременный характер подобного рода намерений и действий других стран и народов, Д.И. Менделеев писал: «Если мы теперь обратим внимание на то, что главные черты истории определяются стремлением народов заполучить себе землю… то станет донельзя очевидно, хотя бы мы приняли во внимание и громадность наших бесплодных тундр, что наша земля представляет великий соблазн для большинства окружающих нас народов» [6, с. 204]. К этому же вопросу в 1904 году обращался английский географ и геополитик Х.Дж. Макиндер: «Наиболее важный контраст, заметный на политической карте современной Европы, это контраст между огромными пространствами России, занимающей половину этого континента, с одной стороны, и группой более мелких территорий, занимаемых западноевропейскими странами, – с другой» [7, с. 12]. Макиндер, подобно нынешним западным специалистам в области геополитики, обоснованно полагал, что Россия, контролирующая огромные территории Евразии, способна со временем стать великой мировой державой, «полноценной планетарной геополитической силой».
Общеизвестно, что и в наше время для многих стран, и Россия в данном случае не исключение, характерно наличие территориальных проблем в отношениях с соседями, протекающих как латентно, так и в форме острых, включая вооруженные, конфликтов. Также, подобно другим странам и народам, в средние века и в новой истории при неизменной, в целом, направленности основного вектора процесс государственного развития России был разноскоростным в самом широком диапазоне. Соответственно этому размеры территории, состав и численность населения, международная правосубъектность страны в раннем Средневековье и последующие периоды ее истории менялись, в том числе радикально: от данника Золотой Орды (Большой Орды) в XIII–XV вв. до крупнейшего государства Евразии – Российской Империи – к концу XVIII столетия.
В этой череде изменений особое место в истории страны, ее развития, прежде всего пространственного, адекватно соответствующему историческому периоду занимает процесс перехода от конгломерата порабощенных русских удельных княжеств к государству независимому, централизован- ному, многонациональному – России – к середине XVI века. Этот период отечественной истории представляется одним из наиболее важных для понимания особенностей исторического развития страны в дальнейшем, а также для раскрытия темы работы.
Ордынское нашествие на Русь в 1237 году не встретило согласованного между удельными княжествами и должным образом организованного сопротивления русских дружин даже после того, как в декабре 1237 года пала Рязань, в феврале 1238 года сожжены Москва, Владимир, Ярославль, Кострома и другие русские города, центры русских удельных княжеств – земель. В то же время, несмотря на кажущуюся легкость завоевания русских территорий, ордынское войско часто сталкивалось с упорным сопротивлением защитников Рязани, Владимира, Зарайска и других русских городов. К примеру, лишь после пятидесятидневной героической обороны горожанами монголо-татары смогли взять и разрушить названный ими «злым» небольшой город Козельск. А в народной памяти навечно сохранился образ легендарного воина, рязанского боярина Евпатия Коловрата.
Наиболее значимая попытка совместными усилиями организовать оборону и остановить нашествие не удалась, когда объединенное войско владимирских и ростовских князей в конце марта 1238 года потерпело поражение в битве на реке Сить. В 1239–1241 гг. Орда покорила Южную Русь. Захватив в марте 1238 года города Тверь и Торжок, ордынцы двинулись к Новгороду, но, не доходя до него сотню верст, остановились и повернули на юг. В 1239 году их войсками были захвачены и сожжены Переяславль, Чернигов, опустошены Чернигово-Северские земли. Вечевой город-республика Новгород, как и союзный ему Псков, избежали нашествия ордынцев, но Псков в 1241 году был захвачен рыцарями-крестоносцами Ливонского ордена.
После падения Киева в 1240 году монголо-татары вторглись на территорию государств Центральной и Южной Европы и через Польшу, Венгрию и Хорватию вышли на побережье Адриатического моря. Поход не стал особенно продолжительным и сокрушительным для этих стран. Их спасло известие о смерти великого хана Удэгея в 1242 году, получив которое, Батый во главе своих войск вынужден был, прервав поход, срочно вернуться в Орду. Цель – успеть получить всю полноту власти в сложившемся в результате завоеваний на пространстве от Днестра до Иртыша гигантском кочевом государстве, в дальнейшем названном Золотой Ордой.
Социально-экономическое и внутриполитическое положение на Руси, особенно в первые десятилетия после ее покорения, оставалось очень сложным из-за установленного Ордой жесткого режима внешнего управления, сохранившегося в истории России и национальном эпосе под названием «татаро-монгольское иго». Архаичный по своей структуре и способам его осуществления, этот режим представлял собой в отношении Руси некое внесистемное сочетание вассалитета и колонии. При нем формально сохранялось административное деление на княжества, но права управления, предоставляемые русским князьям, их объем и полномочия, равно как и меры наказания за нарушение (в особенности – за превышение) прав, определялись Великим ханом Золотой Орды. Относительно свободным оставалось в этих условиях лишь исповедание на Руси православия. В 1267 году хан Золотой Орды Менгу Тимур выдал Русской церкви ярлык, утверждавший неприкосновенность веры, духовенства и церковного имущества.
Отсутствие в тот период у большинства русских удельных князей и феодального верха единой воли к вооруженному сопротивлению Орде во время нашествия в дальнейшем, после окончательного поражения Руси, трансформировалось в их покорность насилию и произволу, чинимым ордынцами при сборе дани, смещениям и убийствам тех, кто пытался сопротивляться насилию, в увод и продажу в рабство русского населения и т. п. Но в то же время даже при ордынском режиме между князьями не прекращались достойные всяческого сожаления и издавна присущие их взаимоотношениям распри по самым разным поводам: земли, доходы, угодья, крестьяне и т. п. Появились, сверх того, неведомые ранее поводы для усобиц, такие как соперничество в борьбе за ханские ярлыки на княжение или долю в доходах, получаемых Ордой в виде дани с русского населения княжеств.
Обычным в тот период стало проявление коллаборационизма, зачастую дружина одного из князей вместе с ордынцами жестоко наказывала чем-то провинившегося другого князя, как правило, ближнего или дальнего его сородича, или же уходила в завоевательные походы за пределы Руси. Такими, к примеру, были в 1266–1282 гг. совместные походы русских дружин и ордынских войск на Кавказ, в Литву и во владения Византии. Подобное состояние и качество отношений между русскими удельными княжествами, между соплеменниками и единоверцами, которое вошло в историю под названием «феодальная раздробленность», поддерживалось и не без успеха провоцировалось Золотой Ордой, для того чтобы воспрепятствовать попыткам объединения Руси, консолидации сил удельных княжеств в целях ослабления и свержения гнета.
Трагизм положения, осознание народом гибельности раздора между русскими людьми нашли, в частности, свое драматическое выражение в появившемся в середине XIII века и ставшем классикой древнерусского эпоса поучении епископа Владимирского Серапиона «Слово о погибели Русской земли». В нем монголо-татарское нашествие оценивалось как справедливая кара русским князьям за братоубийственные усобицы перед лицом смертельной опасности, выражалась надежда на освобождение Руси.
Несмотря на то, что в начале XIV столетия Золотая Орда все еще представляла собой мощное государство, обладавшее значительным и разнообразным потенциалом для подавления любой попытки вооруженной борьбы против него и широко его использовавшее, надежда на избавление Руси от «ига» не только сохранялась в русском народе, но и крепла по вполне объективным основаниям.
Одним из них было то обстоятельство, что, успешно подчинив в течение краткого периода времени целый ряд цивилизационно отличных стран и народов, Орда столкнулась с проблемой обеспечения адекватной, эффективной и гибкой системы управления ими, которая принципиально отличалась бы от традиционной для Орды практики преимущественного использования в качестве основных способов правления насилия и произвола. Еще одним объективным основанием для консолидации сил сопротивления «игу» стал проявившийся в начале XIV века процесс децентрализации Орды. О нем более подробно речь пойдет далее.
Удельный характер государственного объединения, которым была в тот период Русь, ее феодальная раздробленность оказались основными причинами сохранения на Руси подобного режима правления довольно долго, около двух с половиной столетий, хотя он постепенно ослабевал. В конечном итоге архаизм и растущая слабость этого режима способствовали началу роста и укрепления национального самосознания, выразившегося в переходе от отдельных выступлений против гнета к постепенному наращиванию разнообразного обобщенного потенциала сопротивления. Он представлял собой совокупность сил и средств организационнополитического, экономического, территориального, дипломатического характера, что предполагает наличие единства и совместного характера действий.
В результате со временем отдельные стихийные и в силу этого легко и жестоко подавляемые ордынцами попытки выступлений против режима сменились качественно растущими, разнообразными по средствам, но объединенными общей целью практическими действиями русских людей всех сословий. Организация сопротивления перешла на уровень отдельных княжеств и городов Руси, которые, накапливая необходимые для борьбы силы и средства, становились центрами консолидации для совместных действий.
Наиболее влиятельным из них уже в начале XIV века стала Москва, в 1263 году от- данная великим князем Владимирским Александром (Невским) в удельное княжение сыну Даниилу. В условиях сохранявшихся усобиц между удельными русскими князьями Даниил Александрович Московский первым приступил к накоплению одного из важнейших ресурсов, необходимого для обеспечения независимости, безопасности и дальнейшего успешного развития любого государственного образования, – ресурса территориального. Он положил начало расширению территории Московского княжества, в 1300 году присоединив к ней Коломну, а в 1302, за год до своей смерти, Переяславль-Залесское княжество. В связи с этим представляется, что 720 лет назад состоялся первый в истории Российского государства акт территориального развития Московского княжества, хотя и находившегося в условиях «ига», в направлении создания централизованного Московского государства.
Большую роль в ослаблении и последующем распаде Золотой Орды сыграл также процесс ее децентрализации, деления на целый ряд удельных государственных образований, ханств и орд. В начале XV века распад Золотой Орды приобрел практически необратимый характер, на ее территориях появились Большая Орда со столицей в Крыму, которой до 1476 года Русь продолжала платить дань, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, Ногайская орда и целый ряд других. Основаниями для территориальных переделов, наименований и переименований становились династические, политические, экономические и прочие противоречия между ними, а попытки разрешить их силовым путем еще больше углубляли раскол и лишь приближали завершение исторического периода их существования. Выдающийся русский историк и педагог С.М. Соловьев в своем капитальном труде «История России с древнейших времен», отслеживая развитие ордынско-русских отношений, следующим образом охарактеризовал положение в Орде во второй половине XV столетия: «Орда падала сама собою от разделения, усобиц, и стоило только воспользоваться этим раз- делением и усобицами, чтоб так называемое татарское иго исчезло без больших усилий со стороны Москвы [8, с. 203].
Во второй половине XIV века Московское княжество окончательно стало основным центром объединения сил сопротивления Орде. Удачное географическое расположение немало способствовало развитию разносторонних связей Москвы с другими уделами и последовательному накоплению необходимого экономического, политического и стратегического потенциалов, в т. ч. за счет расширения своей территории, «собирания» вокруг себя земель отдельных городов и княжеств. Начало процессу территориального роста Московского княжества, как отмечено выше, было положено в 1300 году вхождением в его состав г. Коломны, в 1302 году – присоединением Переяславль-Залесского княжества, в 1304 году – г. Можайска. Идеологически важное, и не только чисто символическое, значение имел состоявшийся по приглашению московского князя Ивана I Калиты переезд в Москву из Владимира митрополита Киевского и всея Руси Петра, что, по сути, означало превращение Москвы в митрополию – религиозный центр Руси. Это в немалой степени способствовало тому, что Иван I в 1328 году стал еще и великим князем Владимирским.
Мотивы, способы и средства, связанные с расширением Московского княжества, были различными: от дипломатических со средневековой спецификой, до использования для давления на объект возможного присоединения временных союзов с ордынцами. Многие десятилетия длились усобицы Москвы с Тверью, сопротивлялась притязаниям Москвы Новгородская феодальная вечевая республика и ее северные колонии, конфликтовала Рязань и т. д. Несмотря на все это, Московское княжество расширялось и крепло. Свидетельством тому стали первые военные победы над ордынцами. В 1378 году в битве на р. Воже русские войска под руководством московского князя Дмитрия впервые одержали крупную победу, а в сентябре 1380 года состоялась историческая битва на Куликовом поле, завершившаяся разгромом войск Золотой Орды.
Князь Дмитрий Иванович вошел в историю как Донской. Несмотря на то что Москва освободилась от власти Орды всего на два года, победа на Куликовом поле свидетельствовала о способности русских не только побеждать, но и сохранять при этом необходимые для будущего обретения свободы и независимости волю и веру.
В августе 1382 года хан Тохтамыш в союзе с рязанским и нижегородским князьями организовал поход на Русь. Москва была разорена и сожжена. Князь Дмитрий был вынужден признать власть Золотой Орды с возобновлением выплаты дани. Кроме того, не ограничившись разорением Москвы, Тохтамыш осуществил акцию устрашения для всей Руси, разграбив Владимир, Переяславль, Звенигород, Юрьев Польской, Можайск, Дмитров и ряд других городов. К тому же, воспользовавшись ослаблением Москвы, в 1386 году союзник Орды рязанский князь Олег временно захватил Коломну.
Разорение Москвы и других русских городов не парализовало Русь, а, скорее, наоборот – сплотило ее. Показательно, что впервые, без обычной в таких случаях санкции из Орды, в Москве по завещанию своего отца стал княжить Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. Более гибкими и разнообразными становились способы укрепления Московского княжества, его расширения. Так, великий князь Василий вскоре после прихода к власти сумел выкупить у хана Тохтамыша ярлык на право владения Нижегородско-Суздальским княжеством, а в 1393 году ему удалось присоединить к Москве Муромское княжество. «Собирание земель» продолжилось, его темпы ускорялись, а зависимость от Орды становилась все слабее.
С началом XV столетия сплочение русских княжеств вокруг Москвы приобрело системный характер, особенно заметный на фоне отмеченной выше тенденции к распаду Золотой Орды. Особое значение для «собирания земель» приобрело состоявшееся в 1426 году объединение Московского княжества и великого княжества Владимирского со столицей в Москве. С появлением в ре- зультате этого акта единого Великого княжества Московского был сделан еще один исторически важный шаг на пути к созданию централизованного русского государства – России – со столицей в Москве. Значимым для осознания русскими людьми своей растущей независимости от иноземного влияния в целом и демонстрации этого факта Орде стало также избрание русскими иерархами в 1448 году московским митрополитом рязанского епископа Ионы без согласия Константинопольского патриархата.
После того как в 1453 году турки-османы окончательно покорили Византию, константинопольские вселенские патриархи на столетия оказались, по сути, пленниками Османской империи. На долгое время отношения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом практически прервались, и в 1476 году церковный собор в Москве постановил не принимать посланцев из Константинополя и Рима. Тем самым на международном уровне был сделан очередной важный шаг к государственной независимости Русского государства.
Княжение Ивана III, начавшееся в 1462 году, ознаменовалось высокими темпами «собрания Русской земли около Москвы». Достаточно привести краткий перечень прирастаний Московского княжества: 1463 год – за счет Ярославского княжества, 1474 – Ростовского, 1481 – Вологодской земли, 1483 – Вятской земли. Следует при этом особо отметить неоднозначно оцениваемое историками насильственное присоединение к Москве в 1478 году Новгородской республики, не знавшей ордынского ига. Новгород, столетиями находясь под формальным протекторатом русских князей, в то же время успешно поддерживал развитые торговоэкономические и политические отношения с Ганзейским союзом, западными соседями: Литвой, Польшей, Швецией и т. д. Де-факто, освободившись от ордынской зависимости (в 1476 году прекращена выплата дани Большой Орде), Москва положила конец новгородской вольности, расширив одновременно свою территорию за счет бывших зависимыми от Новгорода северовосточных земель.
Н.М. Карамзин, оценивая деятельность Ивана III по созданию независимой и сильной Руси, так писал о падении Новгорода: «Хотя новгородцы, имея правление народное, общий дух торговли и связь с образованнейшими немцами, без сомнения отличались благородными качествами от других россиян, униженных тиранством монголов; однако ж история должна прославить в сем случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему усилить Россию твердым соединением частей в целое, чтобы она достигла независимости и величия, то есть, чтобы не погибла от ударов нового Батыя или Витовта; тогда не уцелел бы и Новгород: взяв его владения, государь московский поставил одну грань своего царства на берегу Наровы, в угрозу немцам и шведам, а другую за Каменным Поясом или хребтом Уральским … Иоанн был достоин сокрушить утлую вольность новгородскую, ибо хотел твердого блага всей России» [9, с. 256].
Осенью 1480 года состоялся поход на Москву хана Большой Орды Ахмата во главе большого войска с целью наказать Русь за своеволие: отказ от выплаты дани, присоединение к Москве земель, ранее находившихся под властью Орды, заключение в 1473 году союза с Крымской Ордой, направленного против Большой Орды, и т. п. В результате состоялось историческое почти месячное «стояние» русского войска и ордынцев на противоположных берегах р. Угры. Москва с надеждой и тревогой ожидала решающего сражения. Великий князь не начинал, однако, сражения и даже поставил во главе русского войска своего сына Ивана. Многие современники, а позже и историки, упрекали Ивана Васильевича в нерешительности и слабости, обрекавших русскую землю на разорение. Этого не случилось, войско Ахмата повернуло на юг и ушло в Орду. Иго пало, и 11 ноября 1480 года с тех пор является одной из наиболее важных дат в истории нашей страны.
Один из выдающихся русских историков XIX века Н.И. Костомаров, исповедуя историческую объективность в критике, отмечал: «Он (Иван III) не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами, он никогда не увлекался, но поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Собирание земель и возможно прочное присоединение их к Московскому государству было заветною целью его политической деятельности; следуя в этом деле за своими прародителями, он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена. Рядом с расширением государства Иван хотел дать этому государству строго самодержавный строй, подавить в нем древние признаки земской раздельности и свободы, как политической, так и частной, поставить власть монарха единым самостоятельным двигателем всех сил государства и обратить всех подвластных в своих рабов, начиная от близких родственников до последнего земледельца. И в этом Иван Васильевич положил твердые основы; его преемникам оставалось дополнять и вести далее его дело» [10, с. 145].
Одним из неформальных, но логичных оснований для претензий Ивана Васильевича на монархический статус стало то, что к концу XV века в результате «собирания земель» Москвой на Руси остался единственный Великий князь объединенного русского Великого княжества Московского. Получив после освобождения от Орды окончательную и полную свободу в установлении межгосударственных связей, Иван III все чаще в отношениях с главами сопредельных государств стал именовать себя Иоанном, а также титуловаться Государем и Великим князем с перечнем названий княжеств, вошедших в состав Московского княжества. В отношениях с Ливонией и мелкими немецкими владениями Иоанн принял титул «царя всея Руси». В грамотах отдельных правителей, посылаемых Великому князю, могли наличествовать и такие обращения, как «самодержец» и даже «император».
Подобное полуофициальное инициативное признание отдельными субъектами международных отношений изменения статуса Великого князя Московского было следствием окончательного, официально признанного соседними государственными образованиями освобождения Руси от Орды. При этом в изменении отношения соседей к Москве наличествовал не только государственно-политический аспект, но и финансовый, поскольку, освободившись от дани Большой Орде, Русь стала крепнуть экономически, представляя для них очевидный интерес и в этом плане.
Пришедший к власти после смерти в 1505 году Ивана III его сын Василий Иванович продолжил «собирание земель», окончательно присоединив к Москве Псков, Северские земли, Волоцкое, Углическое, Рязанское, Новгород-Северское княжества, завоевав Смоленск. Дважды (в 1517 и 1526 гг.) во время княжения Василия III в Москве побывал посол Священной Римской империи барон Сигизмунд Герберштейн, оставивший после себя очень интересные записки о Московии. Здесь уместно привести следующую выдержку из его труда: «От времени Рюрика вплоть до нынешнего государя эти (русские) властители пользовались только титулом великих князей или Владимирского, или Московского или Новгородского и пр., кроме Иоанна Васильевича, который величал себя государем всея Руссии и великим князем Владимирским и пр. Нынешний же Василий Иоаннович присваивает себе и титул, и имя царское следующим образом: «Великий государь Василий, Божией милостью царь и государь всея Руссии и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Булгарский и пр., государь и великий князь Новгорода, низовские земли и Черниговский, Рязанский, Волоцкий, Ржевский, Белевский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Обдорский, Кондинский и пр.» [11, с. 65–66].
Развернутый титул Василия Иоанновича не только отражал принципиально новые уровень, объем и качество правления го- сударством, но и представлял собой почти полный перечень «собранных» Москвой к началу XVI века земель. Экономическое развитие, административный контроль на всей территории страны, признание другими государствами единодержавия на Руси, заключение с целым рядом из них международных соглашений (мирного договора с крымским ханом, о вечном мире с Литовским княжеством, о дружбе и сотрудничестве с Данией, военном союзе с нею против Польши, с Тевтонским орденом о взаимной помощи в случае войны с Польшей и Литвой и т. д.), установление дипломатических отношений со Священной Римской империей с признание ею Василия III императором – все это создавало целый ряд экономических, военнополитических, организационно-правовых и иных предпосылок для превращения Московии в независимое централизованное государство.
В это же время после окончательного освобождения от власти Орды перед Русью среди множества других остро встала проблема наличия идеологической основы для сплочения народов, населявших присоединившиеся и присоединенные Москвой территории. Впрочем, особого выбора объективно не существовало, поскольку основную часть населения бывших удельных княжеств составляли этнически русские, исповедовавшие православие, а единственным сохранившимся и действовавшим на тот период на Руси идеологическим институтом была православная церковь, с 1267 года имевшая ханское разрешение на деятельность. В новых исторических условиях, после освобождения Руси от ордынского ига и падения Константинополя, появилась настоятельная потребность в доступно и адекватно сформулированной на православной основе идее собирания земель и их единения.
Эта объективно и настоятельно необходимая идея была изложена в 1511 году в послании монаха Псковского Елизаровского монастыря Филофея Великому князю Московскому Василию III. В нем обосновывались преемственность власти московским государем от императоров Рима и Византии и перемещение центра христианства в Москву. Послание гласило: «Блюди и внемли, благочестивый царю яко вся христианская царства снидошася в твое едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти» [12, с. 195].
Василий III не только положительно воспринял идею «Москва – третий Рим», но и отчасти воплотил ее, отклонив в 1519 году предложение папы римского Льва X заключить унию католической и православной церквей. В дальнейшем адекватность послания Филофея идеологическому состоянию Руси и уровню организации управления ею статусно подтвердилась тем, что в 1547 году Великий князь Московский Иван IV (Грозный) официально принял титул «цезаря-царя», а в 1589 году митрополит всея Руси Иов стал первым патриархом московским и всея Руси. Торжественное венчание на царство Ивана IV положило начало 370-летнему периоду самодержавного (царско-имперского) правления со всеми его особенностями, в т. ч. относящимися к пространственному развитию государства.
Начало этого периода хотелось бы охарактеризовать словами – «зачином» высказывания выдающегося российского ученого XIX века, создателя теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, сделанного по иному, схожему поводу, о решимости России возвращать себе свое историческое достояние: «Когда же Москва соединила в себе Русь…» [13]. И вот тогда, обретя в начале XVI века и надежно закрепив за собой статус независимого централизованного государства, подтвердив его «соединением в себе Руси», Российское государство вышло в пространственном развитии за пределы славянского ареала. В XVI–XVII вв., «прирастая землями», преимущественно в северном и восточном направлениях Евразии, Россия существенным образом улучшила такую пространственную характеристику, как географическое положение, в том числе наличие выхода к морям.
Несмотря на то, что русские люди вышли на побережья северных морей и приступили к их освоению в XI веке (один из древ- нейших городов русского Севера Великий Устюг известен с 1212 года), плавания мореходов в тот период ограничивались, в основном, прибрежной акваторией. Хотя еще в 1553 году в устье Северной Двины вошла английская торговая экспедиция Ченслера, и состоялись переговоры об установлении торговых связей, в полном смысле началом выхода России к морям следует считать основание в 1584 году по указу Ивана IV Грозного в устье Северной Двины первого морского порта Архангельск. С 1604 года Архангельск стал регулярно принимать торговые суда не только из Англии, но и из Франции и Германии, а в Москве были учреждены соответствующие торговые представительства.
Таким образом, было положено начало формирования морской составляющей пространственного развития России. В тот период для централизованного Российского государства активный выход в северные моря имел важное геополитическое и международное экономическое значение, тем более что попытки Ивана Грозного военным путем выйти на Балтику (ливонские войны) в целом оказались неудачными, а побережье Черного моря, подконтрольное Крымскому ханству и Османской империи, оставалось для русских недоступным. Присоединение же к Российскому государству Астраханского ханства с выходом на Каспий морскую проблему пространственного развития могло решить лишь отчасти.
Пространственное развитие Российского государства в восточном направлении на первом его этапе было сопряжено с необходимостью преодолеть сопротивление образовавшихся в результате распада Золотой Орды Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. После нескольких неудачных попыток завоевания в 1552 году Казань пала, а Иван Грозный добавил к своим титулам еще один – «царь Казанский». В 1556 году русские захватили Астрахань. В 50-е гг. XVI века добровольно в состав Русского государства вошли Чувашия, Башкирия, признали вассальную зависимость от России Кабарда, Черкесия, присоединены народы
Поволжья и Западного Приуралья. Западное Приуралье, к тому же, было закреплено экономически с выдачей жалованной царской грамоты купцам Строгановым на земли по реке Каме.
Начало присоединения сибирских земель оказалось относительно успешным, с признанием в 1555 году сибирским ханом Едигеем вассальной зависимости от русского государства. Однако ограниченные в то время силовые возможности русских на столь удаленных от Москвы территориях не позволили сделать эту зависимость достаточно устойчивой и прочной, и спустя восемь лет власть в Сибирском ханстве захватил хан Кучум. Потребовалось еще почти двадцать лет, чтобы в 1582 году набранная купцами Строгановыми дружина во главе с атаманом Ермаком совместно с отрядом стрельцов разгромила войска Кучума и захватила столицу Сибирского ханства Кашлык. Но в 1585 году на Иртыше малочисленная казацкая дружина была разбита войском Кучума, Ермак погиб.
Это поражение не остановило продвижение на восток, и уже в 1557 году на берегу р. Тобол была заложена крепость Тобольск, со временем ставшая административным и церковным центром Сибири. Разгром войск последнего сибирского правителя, хана Кучума, 20 августа 1598 года на р. Ирмень, притоке Оби, принято считать датой окончательного присоединения Сибири к Русскому государству. Выбор этой даты представляется не случайным, поскольку 1 сентября этого же года венчался на царство Борис Годунов, который менее чем через год после этого события изменил в своем титуле часть «Сибирской земли обладатель» на «Царь Сибирский». Тобольск, бывший в тот период одной из основных опорных точек для пространственного развития России в восточном направлении, превратился в неофициальную столицу Сибири, став административным, торговым центром и, что не менее важно, местом расположения Сибирской и Тобольской епархии, т. е. центром идеологическим. Переход России в XVI веке через Уральский хребет на просторы Западно-Сибирской равнины стал основной предпосылкой природно-географического свойства не только для перемещения людей, но и их организованного расселения, освоения и комплексного развития территорий, включая демографическое.
Здесь следует отметить, что «прирастание землями» на Севере началось задолго до походов Ермака и осуществлялось свободными, в том числе не испытавшими ига, новгородцами, поморами и землепроходцами, доходившими морем и сушей до устья Оби в Западной Сибири. Точную дату начала освоения русскими людьми Уральского Приполярья, а также севера Западной Сибири, определить сложно, но, тем не менее, с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что уже с XI века этот регион был хорошо известен новгородцам и представлял собою вотчину феодальной республики Великого Новгорода, поставлявшую на Русь драгоценную пушнину и морепродукты. С переменным успехом в разное время на владение этим регионом претендовали Ростов Великий, Суздаль, Тверь. Как уже отмечалось ранее, в 1478 году в результате похода великого князя Московского Ивана III Новгородская республика пала, а ее вотчины отошли к Москве. В 1481 году Москва присоединила к себе Вологодскую землю, с полным на то основанием названную впоследствии «Воротами Севера».
Учитывая важную роль, которую сыграли в истории страны Вологда и Вологодская земля в целом, а также их очевидные перспективы и потенциал в решении актуальных задач современного пространственного развития России, представляется уместным и необходимым привести развернутую цитату из современного издания, посвященного Вологодчине. «Роль Вологды и территорий, составивших в XV–XVI столетиях обширные волости одноименного уезда, трудно переоценить. В качестве «Ворот Севера» Вологда стала местом пересечения традиций крупных региональных центров набирающего силы Русского государства: Великого Новгорода, Поморья, Замосковного края, Москвы и центральной России. Вместе с Вологдой переживают расцвет и другие центры хозяйственно-культурной жизни края: Тотьма, Устюг, Сольвычегодск. Эти города с полным на то основанием можно назвать частью Поморья – особой территории Московского царства, прираставшей богатствами Урала и западной Сибири, заморской торговлей и свободным, не знавшим уз крепостничества трудом северных крестьян» [14, с. 14].
С введением административного деления и торгово-экономической специализации освоение Сибири приобретало системный характер. Город Тобольск наряду с обретением упомянутых ранее административных и церковных функций стал еще и распределительным, таможенным центром, пунктом транзитной торговли Европы с Китаем и вел торговлю с Бухарой. В нем работали многочисленные ремесленные мастерские, оружейный завод. В дальнейшем, с получением в 1708 году статуса центра Сибирской губернии, соответствующие полномочия Тобольска распространились на огромную территорию от Уральских гор до Тихого океана.
Вслед за первопроходцами в Сибирь потянулись как свободные люди, так и те, кто по разным причинам был вынужден покидать европейскую Россию поневоле. Свое место в Сибири находили старообрядцы, оставались на поселение отбывшие сроки каторжники, беглые крепостные. Особое место в жизнедеятельности новых сибиряков занимали добыча руды, земледелие, пушной промысел и рыболовство. Вслед за открытием залежей и налаживанием добычи полезных ископаемых (руды, в том числе серебра и золота, соли, угля, самоцветов и т. д.) в Приуралье и на Урале русские рудознатцы обнаружили их залежи еще и на юге Западной Сибири. Быстрыми темпами начала развиваться промышленность, соответственно, создавались промышленные центры (черная и цветная металлургия, камнерезное производство и пр.). На Алтае в начале XVIII века развернули деятельность промышленники Демидовы. Акинфий Демидов, используя приписных крестьян, в 1726 году основал в Колывани сереброплавильное производство, перешедшее затем в государ- ственное ведомство. С 1739 по 1893 год демидовский сереброплавильный завод работал в Барнауле.
Темпы продвижения на восток русских людей, как служилых, казаков, так и простых земледельцев и ремесленников, ускорялись, становились все более массовыми. Оседлые по своей природе русские люди на новых местах строили крепости-остроги, обживали пустующие земли, налаживая, как правило, нормальные отношения с немногочисленным коренным населением. Представляется интересным привести здесь лишь несколько примеров поразительной для того времени скорости продвижения на восток, сопряженной с освоением новых земель. Точка отсчета (дата основания Тобольска – 1587 год; расстояние от Тобольска до Москвы – 1860 км): Томск (1604 год – 2800 км); Красноярск (1628 год – 3350 км); Братск (1631 год – 3840 км); Якутск (1632 год – 4900 км); Иркутск (1650 год – 4200 км). Этот краткий перечень нельзя не пополнить достижениями русских мореходов (они же и землепроходцы) того времени: Ивана Москвина, первого европейца, в 1639 году вышедшего к Охотскому морю и первым побывавшего на Сахалине; Семена Дежнева, также первым из европейцев, задолго до Витуса Беринга (датчанина на русской службе), в 1648 году прошедшего проливом, отделяющим Азию от Америки; Владимира Атласова, первым в 1697–1698 гг. исследовавшего и присоединившего Камчатку к России. И это лишь краткий перечень имен русских людей, которые положили начало полноценному и полноправному освоению тихоокеанского побережья и решению, в числе других, важнейших для России во все времена геополитических и экономических задач.
Высокие темпы освоения Сибири и Дальнего Востока в названный период стали возможными, прежде всего, потому, что оно было не покорением-завоеванием в полном смысле этого определения, а лишь первым актом именно освоения, не завершенного и поныне, спустя 600 лет, в силу множества разного рода причин, требующих отдельного рассмотрения, в том числе гигантских пространств и климатических особенностей. По этому поводу Н.Я. Данилевский 150 лет назад, заочно дискутируя с теми, кто обвинял Россию в ведении именно захватнической политики в процессе расширения в целом, писал относительно ее территориального развития в восточном направлении: «О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит только лишь счесть, сколько в Сибири русских и инородцев, чтобы убедиться, что большей частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своей собственностью?» [13, с. 60]. Цитата из данной работы относится к периоду российской истории, для которого в наибольшей степени было характерно экстенсивное экономическое развитие страны и столь же экстенсивное освоение ее территории, как один из основных факторов укрепления безопасности государства.
Темпы экстенсивного освоения пространства русским народом в XVII–XVIII вв. производили сильное впечатление на соседей России, что нашло отражение в оценках ее будущего иностранцами, посетившими нашу страну. В частности, побывавший в Российской Империи в 1838 году француз де Кюстин отмечал в своих записках: «русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира», задавался вопросом: «суждено ли мечте о мировом господстве остаться только мечтою, способной еще долгое время наполнять воображение полудикого народа, или она может в один прекрасный день претвориться в жизнь? Эта дилемма не дает мне покоя, и, несмотря на все усилия, я не могу ее разрешить. Скажу лишь одно: с тех пор, как я в России, будущее Европы представляется мне в мрачном свете» [15, с. 147].
В России в XX веке, особенно в последнюю его четверть, экстенсивность как ресурс развития вошла в период ускоренного исчерпания своего социально-экономического потенциала одновременно с процессом катастрофического сокращения в результате распада СССР как территорий интенсивного развития государства, так и геополитического потенциала безопасности. По имеющимся данным до распада Советского Союза Россия имела свободный доступ практически ко всем видам минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, обеспечивая самодостаточный характер экономики, хотя и в условиях значительных затрат на их добычу и переработку. В настоящее время Российская Федерация лишилась доступа к 30–40% основных видов минерального сырья. Утверждается также, что особенно ослаблена эффективность управления в малоосвоенных и быстро деградирующих регионах Крайнего Севера и Сибири. Практически вся территория бывшего Советского Союза стала местом экономической, информационной и культурно-конфессиональной экспансии многих государств. Это существенно уменьшило возможности влияния России на данной территории.
Есть все основания полагать, что указанная особенность нынешнего периода пространственного развития России, в целом закономерная в контексте отдельных пери- одов истории страны, свидетельствует о том, что в настоящее время суммарная составляющая векторов развития целого ряда регионов, в особенности Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, все более стремится к нулю, являясь признаком их деградации. Одним из основных итогов распада СССР, как известно, стал тот факт, что Россия в настоящее время, в отличие от Советского Союза, уже не является вполне самодостаточной страной по многим ресурсным статьям: от природных до человеческих. Не случайно З. Бжезинский в 90-е годы прошлого века заявлял: «У России больше нет концепции бытия, и она по этой причине утратила право на жизнь» [2, с. 5].
В представленной работе не предполагается, в силу ее общеисторической ориентированности, подробно рассматривать особенности нынешнего состояния и перспектив территориального развития отдельных регионов России и пространственного развития государства в целом. В то же время сравнительный анализ характера и темпов освоения территории в разные исторические периоды при всей его относительности позволяет сделать вывод о критически нарастающей неравномерности современного территориального развития регионов и в их совокупности – снижении темпов пространственного развития страны, включая его демографическую составляющую.
Список литературы Пространственное развитие российских регионов: исторический контекст
- Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998.
- Бабурин С.Н. Мир империй. Территория государства и мировой порядок. СПб., 2005.
- Россия. Хроника основных событий IX-XX вв. М., 2002.
- Ключевский В.О. Лекции в Московском университете. URL: http://russiahistory.ru/ administrativno-territorial-noe-delenie-drevnej-rusi
- Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
- Менделеев Д.И. Заветные мысли. М., 1995.
- Макиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Классика геополитики. XX век. М., 2003.
- Соловьев С.М. Об истории древней России. М., 1992.
- Торопцев А.П. Москва. Путь к империи. 1147-1709. М.: Тверская, 13, 1999.
- Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2009.
- Герберштейн С. Записки о московитских делах. М., 2008.
- Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 1997.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2003.
- Вологодская область: от древности до наших дней. Вологда, 2013.
- Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990.