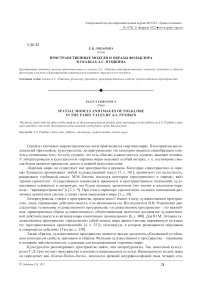Пространственные модели и образы фольклора в сказках А.С. Пушкина
Автор: Лобанова Елена Валерьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка анализа представленных в сказках А.С. Пушкина пространственных моделей, сюжетов и образов фольклора и их роли в формировании национальной картины мира русского человека.
Сказки а.с. пушкина, фольклор, хронотоп, пространственные модели, художественное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/148324011
IDR: 148324011 | УДК: 82
Текст научной статьи Пространственные модели и образы фольклора в сказках А.С. Пушкина
Одной из ключевых мировоззренческих категорий является «картина мира». В восприятии исследователей (философов, культурологов, литературоведов) эта категория является своеобразным ключом к пониманию того, что есть «сущее», что есть «бытие» и какое место в «сущем» занимает человек. У литературоведов и культурологов «картина мира» вызывает особый интерес, т. к. постижение смысла бытия является предметом, целью и задачей искусства слова.
«Картина мира» не существует вне пространства и времени. Категории «пространство» и «время» буквально пронизывают любой художественный текст» [7, с. 101], организуют его целостность, раскрывают глубинный смысл. М.М. Бахтин, исследуя категории «пространство» и «время», ввёл термин «хронотоп»: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе - “времяпространство”)» [2, с. 9]. При этом в характере «хронотопов» он видел воплощение различных ценностных систем, а также типов мышления о мире [3, с. 59].
Литературоведы, говоря о пространстве, прежде всего? имеют в виду художественное пространство, лишь отражающее действительность, а не являющееся ею. Исследователь И.В. Роднянская дает следующее толкование художественного пространства: «художественное пространство - это важнейшая характеристика образа художественного, обеспечивающая целостное восприятие художественной действительности и организующая композицию произведения» [6, с. 488]. Для Ю.М. Лотмана художественное пространство «представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [4, с. 251]; «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие» [Там же, с. 258].
Таким образом, художественное пространство является частью хронотопа, обладающей устойчивым комплексом свойств, признаков и образов. Функции художественного пространства – отражение и познание действительности, служащие для моделирования «картины мира».
Культурологи рассматривают пространство иначе, чем литературоведы. Так, известный культуролог Г.Д. Гаче изучает пространство в контексте национальных культур. Национальную модель мира он определяет как «Космо-Психо-Логос», используя древний натурфилософский язык четырех сти- хий (Земли, Воды, Огня и Воздуха). Соотношение пространственных и бытовых элементов составляет, по его мнению, «национальный образ и модель мира».
Рассмотрим пространственные модели в сказках А.С. Пушкина с точки зрения «картины мира», определяемой литературоведами и культурологами. Анализ пространства произведения литературы предполагает исследование важного свойства этой категории - особенности, присущие данному направлению литературы и типу культуры, к которому произведение относится или какой в нём описывается. Исходя из сказанного, мы можем назвать рассматриваемые произведения русскими литературными сказками, а выявлять и анализировать мы будем модели пространства, в которых разворачивается сюжет сказок.
В настоящем исследовании мы не ставим цель выяснить источники сказок А.С. Пушкина, но придерживаемся мнения, что его сказки основаны на народном фольклоре, а именно - на так называемых «бродячих сюжетах». Эти сюжеты представляют собой устойчивые комплексы сюжетно-фабудьных мотивов, составляющие основу устного или письменного произведения, встречающиеся в фольклоре разных стран и меняющие свой облик в зависимости от среды своего бытования. Условно «бродячие сюжеты» можно разделить на несколько групп, распределим сказки А.С. Пушкина по этим группам:
-
‒ героические, повествующие о подвигах героев, витязей: «Руслан и Людмила»;
-
‒ мифологические или волшебно-сказочные, в основе которых лежат сказания, мифы и предания о драконах (сказочных змеях), чудесных девах (оборотнях), о злых демонах, уничтожить которых можно только сложным и хитрым способом: «Сказка о царе Салтане»;
-
- сказочно-бытовые, основанные на бытовых явлениях: наследование или обретение имущества, обряд «умыкания» невесты, клеветнические интриги, нацеленные на изгнание нежелательного родственника: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»;
-
- новеллистически-бытовые или сатирическо-бытовые, а именно - анекдоты о глупцах, вероломных супругах, сказки о попах, хозяевах и их работниках и т. д.: «Сказка о попе и работнике его Балде».
Опираясь на классификацию сказочных сюжетов, созданную Н.П. Андреевым по система Аарне, определим, какие из них выявляются в сказках А.С. Пушкина [1]:
-
- сатирическо-бытовые и две сказочно-бытовые: 1063 - кто дальше бросит дубину, 1072 - бег наперегонки, 1082 – кто понесёт лошадь, 555 – золотая рыбка, 518 – обманутые лешие;
-
- героическая, сказочно-волшебная и сказочно-бытовая: 400 - муж ищет исчезнувшую или похищенную жену/юноша женится на царь-девице (волшебнице), 480 - мачеха и падчерица, 512 - прогнанная сестра, 883 - оклеветанная девушка, 884 - покинутая беременная жена, 709 - мёртвая царевна, 431 – лесной дом, 508 – благодарный мертвец, 569 – чудесная шапка.
Сюжеты сказок А.С. Пушкина раскрывают «картину мира» как художественное пространство, которое можно назвать моделью мира русского человека, выраженную языком поэта XIX в. При этом следует учесть, что «картина мира» русского человека с течением времени менялась: дохристианская Русь и христианская Русь – два разных мира, но изменение «картины мира» в нашей культуре шло не путём замены старых образов новыми, а путём их наслаивания и смешения - к «старому» добавлялось «новое».
В сказках А.С. Пушкина мы видим несколько пространственных моделей: реальную, мифологическую, фантастическую, космическую и психологическую.
Реальная пространственная модель представлена географическими объектами: суша, море, поле, лес, сад, горы, пещера, город, жилище человека (землянка, изба, подворье, дворец). В то же время некоторые реальные объекты относятся к фантастической пространственной модели, так в море живут «волшебные помощники» (золотая рыбка, Царевна-лебедь, морские витязи, бесы), в пещере живёт волшебник Финн, в лесу и волшебном саду обитают «антагонисты» – колдунья Наина, чародей Черномор.
С сюжетом сказки тесно связан лейтмотив, под которым мы понимаем основную мысль, повторяемую неоднократно или подчёркиваемую в заключении (морали) сказки, а также художественный образ или выразительную деталь, служащие для раскрытия авторского замысла. Мораль в первую очередь связана с ценностным полем культуры. Если говорить о христианской культуре, то православие отличается от европейского христианства: в нашем «разделении» мира нет «Чистилища», православные признают только «Рай» и «Ад». Русский человек живёт здесь и сейчас, но он связан с космическим пространством, к которому можно отнести и загробную жизнь. Грешник, т. е. нарушающий моральные табу, попирающий ценности, попадёт в «Ад», праведнику и раскаявшемуся открыта дорога в «Рай». Ценности и ценностные табу акцентируются в морали сказки, вид греха или добродетели и расплата/награда раскрываются в лейтмотиве.
В сатирическо-бытовой и двух сказочно-бытовых сказках А.С. Пушкина ясно виден лейтмотив «жадность и наказание за неё», моральные ценности и наказание подчёркиваются так:
«А Балда приговаривал с укоризной:
“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”» [5, с. 627].
«А народ-то над ним насмеялся:
“Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!”» [Там же, с. 652].
«Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто» [Там же, с. 653].
В других сказках А.С. Пушкина прослеживается обряд, корни которого уходят в языческие времена. Речь идёт об обряде инициации: подросток проходит ряд испытаний, что определяет его готовность перехода к роли взрослого члена общества, к которому он принадлежит, и разрешает/не разрешает ему совершать определённые действия, например – принимать участие в охоте и военных походах, вступать в брачный союз, начинать вести собственное хозяйство и т. д.
В поэме «Руслан и Людмила», «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» лейтмотивом выступает брачный союз. Испытания, выпадающие на долю главных героев, дают им своего рода «разрешение» на создание семьи и заведение собственного хозяйства. Следует обратить внимание на объекты реальной пространственной модели, тесно переплетающиеся с мифологической пространственной моделью: бочка, в которую посажены Гвидон и его мать, хрустальный гроб царевны, укрытый в пещере, прямо указывают на символическую «смерть» героя, на его переход в иной мир. Руслан же на самом деле убит соперником.
Объектами мифологической пространственной модели выступают «дурные, гиблые места»: чащоба, пещеры, болота, заколдованные места и т. д. В сказках А.С. Пушкина такие места несколько сглажены - не вызывают ужаса, но вполне очевидно, что они могут оказаться гиблыми для непосвящённого человека, т. к. относятся к ритуалу инициации:
-
‒ остров, затерянный в океане, на котором Гвидон должен самостоятельно обустроить свою жизнь;
-
- лесной дом семи братьев - испытание для молодой девушки, она должна показать себя как хозяйка дома, как взрослый член семьи.
Руслан, в поисках Людмилы, попадает в лес, едет через поле, т. е. пересекает объекты реальной пространственной модели, но в то же время он попадает в фантастическую пространственную модель – в мир Черномора. Он, сразу после возвращения в Киев, должен вступить в схватку с реальными врагами – неприятелем, напавшим на город, а в фантастическом мире сражается с Черномором.
Связующим звеном между реальной и мифологической пространственной моделями выступают «волшебные помощники» – Финн, Царевна-лебедь, антагонисты – Наина, Черномор, волшебные предметы – шапка-невидимка, говорящее зеркальце, «благодарный мертвец» – голова великана, брата
Черномора. «Благодарный мертвец» – особый образ фольклора, он указывает на связь с предками, выступающими защитниками и помощниками ныне живущих.
Таким образом, «картина мира» русского человека от художественного пространства литературной сказки приближается к хронотопу, на который указывал Бахтин, и национальной картине мира, определённой Гаче.
Русский человек живёт в двух измерениях. Он одновременно и язычник, и христианин: он совершает определённые свадебные обряды, «перемещающие» его в фантастическую и мифологическую пространственные модели обряда инициации, но брачный союз совершается по христианским канонам. Погибший герой сказки (Руслан) воскрешается живой водой, но царевна умирает «под образами». Руслану помогают волшебник и «благодарный мертвец», королевич Елисей обращается за помощью к силам природы – Солнцу, Месяцу, Ветру, т. е. к объектам космической пространственной модели. Хронотоп сказок А.С. Пушкина, таким образом, тесно связан с хронотопом русского сказочного фольклора: моральные ценности русского человека-язычника переплелись с ценностями православного христианина, обычаи предков влились в жизнь новых поколений. Здесь мы можем сказать о психологической пространственной модели – внутреннем мире субъекта, героя сказки и реального человека. Для русского человека «сущее», т. е. космическая пространственная модель, есть природа-мир, объединяющая космические объекты, силы природы (ветер, океан и т. д.), религиозные воззрения и реальность. Его «бытие» - существование и жизнедеятельность, основаны на спайке моральных законов язычества и православия. Русский человек занимает в «сущем» место не игрушки рока (судьбы), а со-творца реальной пространственной модели, взаимодействующим с другими пространственными моделями через «память предков».
Список литературы Пространственные модели и образы фольклора в сказках А.С. Пушкина
- Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л.: Издание русского географического общества, 1929.
- Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000.
- Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман [и др.]; под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа: Академия, 1999.
- Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэтического слова. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М.: Просвещение, 1988.
- Пушкин А.С. Избранные сочинения: в 2-х т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1978.
- Роднянская И.В. Художественное время и художественное пространство // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 487-489.
- Семенов А.Н. Пространство и время художественного текста // Вестник Югорского государственного университета. 2005. № 1(1). С. 100-108.