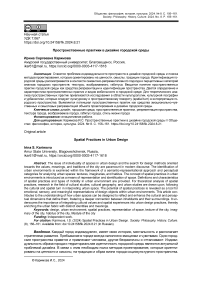Пространственные практики в дизайне городской среды
Автор: Каримова И.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Ставится проблема индивидуальности пространств в дизайне городской среды и поиска методов проектирования, которые ориентированы на ценности, смыслы, традиции города. Идентификация городской среды рассматривается в контексте семантико-репрезентативного подхода и перцептивных категорий анализа городских пространств: текстуры, воображаемого, габитуса. Вводится понятие пространственных практик городской среды как средства репрезентации и идентификации пространства. Дается определение и характеристика пространственных практик и видов мобильности в городской среде. Для теоретического анализа пространственных практик привлекаются исследования в области культурологии, культурной географии и урбанистики, которые следуют культурному и пространственному повороту (spatial turn) в интерпретации городского пространства. Выявляется потенциал пространственных практик как средства эмоционально-чувственных и смысловых репрезентаций объекта проектирования в дизайне городской среды.
Дизайн, городская среда, пространственные практики, репрезентация пространства, текстура города, воображаемое города, габитус города, стиль жизни города
Короткий адрес: https://sciup.org/149146445
IDR: 149146445 | УДК: 7.067 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.21
Текст научной статьи Пространственные практики в дизайне городской среды
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия, ,
,
В дизайне среды пространство города, рассматриваемое в рамках культурного поворота, контекстуализма, средового подхода и пространственного поворота (spatial turn), трактуется как «место» с присущими ему морфологией, семантикой и феноменологией (Каримова, 2024). В новой урбанистике для идентификации города на основе символической репрезентации городских пространств выделены такие перцептивные категории, как текстура, воображаемое, габитус (Лёв и др., 2019). Рольф Линднер, исследуя «собственную логику городов», дает следующую трактовку этих категорий. Текстура города проявляется в его экспрессивных характеристиках, которые способны пробуждать воспоминания. Она собирается в образах, типизациях, материальных и нематериальных репрезентациях городских пространств – названиях мест, достопримечательностях, памятниках, объектах городской навигации, городском фольклоре и пр. Воображаемое города замещает его физическое пространство в культурно-кодированных представлениях, в которых отражены истории о значимых событиях, выдающихся личностях, локальных мифах и притчах. Смысловая наполненность города (городского пространства) может быть настолько насыщенной, что достаточно произнести его название, как возникает поток ментальных образов и представлений. Понятие «габитус» по отношению к городу определяет его социокультурное пространство в традициях, характере и манерах жителей. Габитус – это также система смыслов и ценностей, обусловливающая «правила» жизни общества в пространстве, дающая устойчивость этому пространству. Габитус характеризует особый стиль жизни города, который выделяет его среди других городов.
Жизнь города разворачивается как процесс «производства пространства» – воспринимаемого, понимаемого и проживаемого (Лефевр, 2015). Пространство города гетерогенно, и «каждое место в городской среде существует как часть целого, через контрасты и противоречия, которые соединяют их с другими местами и выделяют их среди прочих» (Lefebvre, 2003: 39). Социокультурное пространство города и его эмоционально-чувственные и ментальные репрезентации формируются в пространственных практиках, характерным признаком которых является движение в пространстве (Серто, 2013).
Данное исследование ставит следующие задачи: 1) дать характеристику видов пространственных практик в городской среде; 2) определить потенциал пространственных практик как средства эмоционально-чувственных и смысловых репрезентаций объекта проектирования в дизайне городской среды.
Виды пространственных практик в городской среде . В настоящем исследовании пространственные практики в городской среде трактуются как способы движения в пространстве в целях физического, эмоционально-чувственного и ментального освоения города. Пространственные практики выступают средством репрезентации и идентификации пространства. Они характеризуются различными типами мобильности, которые создают масштаб и ракурсы восприятия в идентификации городской среды. Пространственные практики реализуются в пешеходных актах, с помощью транспортных средств и городских медиа, от которых зависит, каким образом территория города сплетается в осмысленный образ жизни в пространстве.
Движение пешком дает возможность соизмерить и осмыслить пространство, почувствовать ритм повседневности жизни, это субъективно заинтересованное освоение города. В пешеходных актах открывается антропологическое, поэтическое и мифологическое пространство города. Сети, образуемые сплетением путей движения горожан, создают многослойную историю пространства, которая может не совпадать с его геометрией и географией: «В ясный текст спланированного и читаемого города проникает таким образом город кочующий или метафорический» (Серто, 2013: 188). Мишель де Серто, сопоставляя движение и прогулки по городу пешком с риторикой, определяет их как пешеходно-речевые акты. Функцию знаковой системы ориентации в пространстве города выполняют названия мест, в которых воплощена легитимная семантика исторических событий, выдающихся личностей, явлений природы и пр. Пешеход замечает значимые места и пропускает другие, не привлекающие внимание, собирая историю города, наполненную личностным смыслом. В пешеходно-речевых актах рождается семантика пространства, город предстает как легенда, тем, что должно быть открыто и прочитано, местом, куда хочется возвращаться (Башляр, 2004; Серто, 2013).
Пространственные практики посредством транспортных средств исключают физическое присутствие человека в стабильном означаемом города. Эти практики реализуются заданными траекториями движения, в последовательности остановок и затраченного времени. Подземный городской транспорт (метро), пожалуй, самый неоднозначный способ пространственной идентификации городской среды. Метрополитен – это пространство в пространстве города, подземный город. Его семантика построена по принципу многоуровневого кодирования географического пространства города: означивания уже означенного, которому даны новые смысловые коннотации объектов. На их основе строятся образы мест подземного пространства, где передвижение обусловлено навигацией, которая легализует все перемещения: городской ландшафт трансформирован в схему-сеть урбанонимов. Что происходит в процессе движения на территориях сверху – неизвестно. Сегодня есть предложения дополнить передвижение в подземном пространстве города видеосюжетами территорий, под которыми проносится скоростной экспресс.
Наземный общественный транспорт дает возможность наблюдать город, хотя скорость перемещения исключает фиксацию на его деталях. Образ пространства создается на основе вычленения значимых архитектурных сооружений, объектов ландшафтного дизайна или паблик-арта. В пространственных практиках общественный транспорт выступает маркером современной комфортной городской среды. Технологичные остановки информируют пассажира о дате, времени, температуре воздуха, отсчитывают минуты до прибытия транспортного средства. Когда представлен маршрут движения от пункта посадки до конечной остановки, человек следует в место назначения согласно указанной схеме.
Личный транспорт привносит свое разнообразие в пространственные практики. Владельцы автомобилей для построения оптимальных путей движений используют спутниковые системы навигации в городской среде. Мотосредства, экобайки и прочие современные техноновинки обеспечивают динамику эмоционально-чувственного восприятия пространства. Город предстает бегущей лентой открытых проездов, деревьев, фасадов зданий, затесненных улиц и разворачивающихся событий жизни.
Сегодня в пространственных практиках города особую значимость приобретают новые городские медиа. Д.Н. Замятин, исследуя новые медиальности мегаполисов и больших городов, обращает внимание на «распад традиционных модерных способов общения и коммуникации» (2020: 232), которые формировали в реальном физическом пространстве города картографию освоенных мест. Он говорит, что в современном городе место в пространстве определяется как медиальное событие, центрирующее здесь-и-сейчас очередную картографию воображения. Современные медиа трактуются широко - это возможности Интернета, социальных сетей и новые социальные коммуникации, формирующие новые типы городской среды - «постурбанистические среды» (Замятин, 2020). Новые городские медиа исключают практики в пространстве, требующие передвижения или пребывания в конкретном месте. Они создают свои территории общения, «постгородские» пространства, где разворачиваются почти невидимые акты коммуникации, чья тематика опосредована повседневностью: «новости», «культура», «досуг и развлечения», «семья», «здоровый образ жизни» и пр. Складывается метагеография города, которая оперирует совсем иной семантикой «места» и не предполагает соприсутствия субъектов коммуникации в реальном физическом пространстве.
Пространственные практики в эмоционально-чувственных и смысловых репрезентациях объекта проектирования в дизайне городской среды . Индивидуальность города проявляется сосуществованием множественных слоев («реальностей») и множеством смыслов мест городского пространства, что дает основание трактовать его как палимпсест (Митин, 2022). Чтение пространства города в процессе движения - это не чтение книги, его культурный ландшафт беспорядочен, здесь возможны вырванные страницы, письмо на незнаемом языке или неразборчивым почерком. Место в городской среде «не просто множество географических характеристик, пространственных мифов, текстов и других пространственных репрезентаций, а еще и множество социальных практик, множество опытов проживания пространства» (Митин, 2022: 119).
Городская среда не идентифицируется «полем», она собирается эмоционально-чувственными и смысловыми репрезентациями: текстуры, воображаемого, стиля жизни (габитуса) конкретных мест города, которые освоены в пространственных практиках. В процессе движения разворачивается дискурс между началом пути - «местом» - и «не-местом» - незнакомым познаваемым пространством (Линч, 1982; Серто, 2013). Мишель де Серто указывал на «три различные (но взаимосвязанные) функции отношений между пространственными и означающими практиками: достоверное, достопамятное и изначальное» (2013: 204). Достоверное санкционирует (делает возможным и заслуживает доверия) действия присвоения пространства; достопамятное повторяет и воскрешает в памяти (значение); изначальное каждый раз возвращает к началу / неговорящему опыту. Эти три механизма организуют места городского дискурса особым образом, не поддающимся системности. Места распознаются в именах собственных, которые облачают пространство в слова и тем самым делают его достоверным и обитаемым (Серто, 2013).
Современные реновации и джентрификации территорий города создают новую мифологию пространства, превращая их в «сити», «золотые мили», «лазурные берега» и пр. То, что было ранее означаемым, искореняется, но значения и символы мест продолжают существовать «до востребования», поскольку без «особенных мест» город теряет индивидуальность, становится местом, где уже не во что верить (Зукин, 2019). Потребность в «правдивой» истории возникает именно в пешеходных актах, которые делают пространство жилым. При проектировании пешеходных пространств возникает острая потребность в насыщенности их знаками и символами, поиске мифа или легенды места. Легенды возвращают смысл пространству даже в том случае, когда оно лишилось знаков и осталась только память о нем. В пешеходных актах территория города становится запечатлением эмоционально-чувственного опыта пребывания в пространстве – мне здесь плохо или хорошо (Бауман, 2008; Башляр, 2004; Серто, 2013).
Пространственные практики, которые реализуются в пешеходных актах, выявляют текстуру города в характерном «узоре» пространства, который обнаруживается в объектах предметно-пространственной среды, материалах и цвете. Текстура проявляется в метроритмических закономерностях, сложной конфигурации или рациональной геометрии пространства, запахах и звуках, наполняющих город. Текстура организации дорожно-тропиночной сети в дизайне среды становится не схемой движения пешеходов к точкам притяжения, а опытом соприсутствия в пространстве, который наполнен эмоционально-чувственным восприятием и субъективными ощущениями.
Воображаемое города, формирующееся в пешеходно-речевых актах, отражает коллективные представления о пространстве – это поэтически-образный способ воссоздания реальности. При проектировании пешеходных пространств следует исходить из того, насколько правдоподобны и убедительны его перекодирования и новые репрезентации по отношению к воображаемому. В пространственных практиках пешеходных актов раскрывается стиль жизни города – стереотипы поведения и устоявшиеся нормы социальной коммуникации, характерные для данного городского пространства. Стиль жизни города относится к устойчивым и стабильным компонентам смыслообразующего уровня, которые определяют стереотипы поведения и деятельности, что в дизайне среды опосредует построение сценариев моделей поведения людей в пространстве.
Город – это пространство, живущее местами. Представить и вообразить пространство города, осваивая его в пешеходных актах, сложно. Сформировать ментальный образ городской среды позволяет мобильность транспортных средств, масштабы которой увеличиваются. В процессе этих практик территории города идентифицируются как «место», «не-место» или «пустое пространство» (Бауман, 2008). Последовательность мест и схем передвижения создает метальный каркас локаций в городской среде. Сопоставив план города с рисунками ментальных карт, сформированных в пространственных практиках горожан, можно увидеть отрефлексированные пространства жизненных циклов (Линч, 1982; Митин, 2017). В них город предстает местами, где человек занимается разными видами деятельности: живет, работает, проводит досуг, совершает покупки и пр. Среди освоенных пространств города одни формируют повседневность, другие посещаются эпизодически, а есть территории без привязанностей и воспоминай.
Пространственные практики, опосредованные транспортными средствами, собирают городскую среду в логически осмысленное целое. Здесь воображаемое города создается на основе соотношения различных территорий города, из субъективных и коллективных репрезентаций. Воображаемое города проявляется в осознании географии места и его пути культурно-исторического развития. Транспортная мобильность укрупняет элементы текстуры города в конфигурации форм исторического центра, деловой части города, жилых районов, рекреаций и ландшафтов городской среды. Практики освоения города транспортными средствами измеряют его пространство расстоянием и временем. Время передвижения проявляет текстуру города в характере упорядоченности событий жизни. Скорость временных циклов перемещения по городу уплотняет смысловую наполненность пространства. Скорость и время перемещения переопределяют стиль организации городской жизни в его стремительности или размеренности.
Вообразить и предвосхитить пребывание в городе дают возможности современных медиа. Сегодня, собираясь в путешествие в незнакомый город, мы обращаемся к поисковым системам интернет-ресурсов. Так, на Google-картах мы находим достопримечательности, места отдыха и развлечений, гостиницы. Информация о городе (фото, видео, отзывы) размещена на туристических сайтах, новостных сайтах города и в чатах социальных сетей. Таким образом, еще до прибытия в город складывается представление о его пространственно-географических и культурноисторических особенностях. Конечно, идентификация городской среды требует погружения в ее контекст и пребывания в физическом пространстве. Современные медиа стремятся заполнить этот пробел на эмоциональном и познавательном уровне, и виртуальный образ города бывает более впечатляющим, чем реальный.
Медиальность социальных сетей в пространственных практиках создает виртуально проживаемое пространство города. С одной стороны, городские медиа организуют воображаемую географию сообществ города без локализации в его физическом пространстве. С другой стороны, «детерриторизация» городских сообществ преодолевается в воображаемом-и-проживаемом пространстве, которое формируют медиа. Медиа структурируют социальную коммуникацию согласно актуальным проблемам, потребностям, желаниям и интересам. Содержание социальных сетей городских медиа представлено фото- и видеосюжетами, историями событий, информацией о происшествиях, отзывами и пр. Эти пространственные практики проявляют текстуру города в коллаже смысловых репрезентаций, которые воспроизводят в медийном пространстве повседневность жизни. Воображаемое города разворачивается непосредственно в актах коммуникации, дающих представление о том, какими субъективными и коллективными смыслами живет город. Пространственные практики городских медиа не имеют социальной иерархии, и субъекты коммуникации в большинстве своем не знакомы. Стиль медиасообщества характеризуется свободной манерой общения и особым сленгом. Городские медиа формируют территорию социального взаимодействия, на которой происходит сопоставление реального физического пространства города с его вообра-жаемым-и-проживаемым пространством, где современный город видит себя и читает свою повседневность. В дизайне среды пространственные практики городских медиа выступают средством социальной коммуникации, соучастного проектирования и диалога с обществом.
Заключение . В дизайн среды вводится понятие пространственных практик, которые открывают новые перспективы в исследовании пространства города и концептуализации его образа в процессе проектирования. Пространственные практики в городской среде трактуются как способы движения в пространстве в целях физического, эмоционально-чувственного и ментального освоения города. Пространственные практики также выступают средством репрезентации и идентификации пространства.
Пространственные практики можно рассматривать как метод дизайна среды, который дополняет сложившиеся функциональные, морфологические и ситуационные методы проектирования. Данный метод, опосредуя различные виды мобильности и позиции субъекта пространственных практик (пешехода, пассажира, водителя, пользователя/субъекта городских медиа), дает возможность определить эмоционально-чувственные и смысловые репрезентации городской среды: текстуру города, воображаемое города, стиль жизни – габитус города. Пространство как объект проектирования идентифицируется и обретает четкость характеристик.
Список литературы Пространственные практики в дизайне городской среды
- Бауман З. Текучая современность. М., 2008. 240 с.
- Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства. М., 2004. 376 с.
- Замятин Д.Н. Постгород (III): политики сопространственности и новые медиальности // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19, № 3. С. 232–266. https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-3-232-266.
- Зукин Ш. Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных городских пространств. М., 2019. 354 с.
- Каримова И.С. К вопросу пространства и места в дизайне городской среды // Общество: философия, история, культура. 2024. № 3. С. 155–161. https://doi.org/10.24158/fik.2024.3.20.
- Лёв М., Беркинг Х., Линднер Р. Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике. М., 2019. 424 с.
- Лефевр А. Производство пространства. М., 2015. 405 с.
- Линч К. Образ города. М., 1982. 328 с.
- Митин И.И. Город как палимпсест: от историко-географической метафоры к семиотической модели территориального управления // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2022. № 1 (49). С. 108–125. https://doi.org/10.31249/chel/2022.01.06.
- Митин И.И. Ментальные карты города: история понятия и разнообразие подходов // Городские исследования и практики. 2017. Т. 2, № 3. С. 64–69. https://doi.org/10.17323/usp23201764-79.
- Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб., 2013. 330 с.
- Lefebvre H. The urban revolution. Minneapolis, 2003. 223 p.