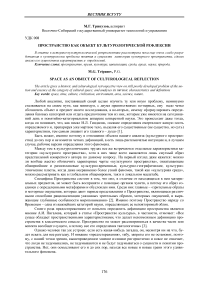Пространство как объект культурологической рефлексии
Автор: Трипузов М.Г.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье в историко-культурологической ретроспективе рассмотрена пока еще очень слабо разработанная в культурологии проблема понятия и сущности категории культурного пространства, сделан анализ его сущностных характеристик и определений.
Пространство, время, культура, цивилизация, среда, ареал, наука, природа
Короткий адрес: https://sciup.org/142148125
IDR: 142148125 | УДК: 008
Текст научной статьи Пространство как объект культурологической рефлексии
Любой аналитик, поставившей своей целью изучить ту или иную проблему, неминуемо сталкивается на своем пути, как минимум, с двумя препятствиями: во-первых, ему надо четко обозначить объект и предмет своего исследования, а во-вторых, самому сформулировать определения базовых категорий или отдать предпочтение тем из них, которые уже имеются на сегодняшний день в понятийно-категориальном аппарате конкретной науки. Это происходит даже тогда, когда он понимает, что, как писал И.Л. Гиндилис, «всякие определения омертвляют живую плоть определяемого и, препарируя уже мертвое тело, выделяя его существенные (не существо, но суть) характеристики, тем самым лишают его главного - духа» [1].
Быть может, именно поэтому в отношении объекта нашего анализа (культурного пространства) до сих пор и не имеется четких дефиниций, а есть лишь расплывчатые интуиции и, в лучшем случае, рабочие версии определения этого феномена .
Между тем в культурологических трудах все же встречаются отдельные характеристики категории «культурного пространства», хотя в них чаще всего выявляется лишь смутный образ представлений конкретного автора по данному вопросу. На первый взгляд даже кажется: можно ли вообще жестко обозначить характерные черты «культурного пространства», охватывающие обширнейшие и разноплановые культурно-временные, культурно-географические, культурноэтнические пласты, когда даже несравненно более узкий феномен, такой как «культурная среда», можно рассматривать как в глобальном общемировом, так и в локальном масштабе.
Специфика Пространства состоит в том, что оно, в отличие от находящихся в нем материальных предметов, не может быть воспринято с помощью органов чувств , а потому его образ соединен с определенными метафорами и обусловлен ими. Среди них главные - «зрительные образы и моторные ощущения, которые дают первые представлении о Пространстве, являющиеся различными способами рационализации указанных зрительных образов, моторных ощущений, и выражающие глубинные особенности миропонимания» [2]. Именно поэтому Пространство наряду со Временем - одна из важнейших категорий науки, определяющих ее неповторимый облик.
Своего рода предостережением от попыток определить дефиницию пространства является мнение А.И. Пигалева, который в статье «Пространство культуры», в частности, отмечает: «Все сущее обладает пространственными характеристиками, что делает невозможным дефиницию пространства в классическом смысле. Пространство не может рассматриваться в качестве части или аспекта всеобщего сущего, а потому все его определения тавтологичны» [3].
Однако человек так уж устроен: если есть какая-нибудь загадка, он, несмотря ни на что, будет искать для нее разгадку. И никакие «предостережения», табу, запреты его не остановят, поэтому, с нашей точки зрения, вышеприведенное мнение излишне ригористично и вовсе не означает, что люди не задумывались, не задумываются и не будут задумываться о сущности и понятии пространства. Нет, они осмысливают его и до сих пор , находя все новые и новые грани этого удивительного феномена.
Например, известный отечественный культуролог А.Я. Флиер в одной из своих недавних публикаций подчеркивает, что в понятии «культурное пространство» следует различать два основных его смысла. Географическое или физическое пространство распространенности той или иной локальной культуры, с одной стороны, и его функциональное членение на те или иные культурные зоны (жилую, хозяйственную, сакральную, погребальную и др.) - с другой» [4].
А потом, что означает дать определение чему-нибудь вообще? Это означает выявить прежде всего принципиальные отличия объекта своего анализа от его антитезы. Антитезой Культуры является Природа. Стало быть, в своем стремлении дать определение культурному пространству мы должны противопоставить его пространству природному . Природное пространство имеет десяток вполне убедительных дефиниций, как философских, так и естественно-научных. Поэтому, пусть даже не в «классическом», но в рабочем, операционном смысле определения, дефиниции культурного пространства имеют полное право на свое существование, чтобы каждый исследователь мог им оперировать в своем научном творчестве.
Учитывая все это, диссертант берет на себя ответственность начертить, хотя бы, приближенную, может быть, даже и «мертвую» схему, систематизировав отдельные признаки категории «культурного пространства», которые, безусловно, не могут исчерпать многоликости его живого целого, главным образом его базового основания - Культуры, как одной из самых сложных систем и форм бытия человека и общества.
В своей знаменитой книге «От существующего к возникающему» нобелевский лауреат И. Пригожин утверждает: «...Мы переживаем тот период научной революции, когда коренной оценке подвергается место и самое существо научного подхода, - период, несколько напоминающий возникновение научного подхода в Древней Греции или его возрождения во времена Галилея...» [5].
По признанию многих именитых ученых современности, это, по существу, «... первая книга, которая посвящена «истории» развития материи, и хотя автор назвал ее книгой о времени, это не совсем так. Она, скорее - попытка слияния, попытка синергетического соединения двух фундаментальных понятий: «пространства» и «времени» [6].
Связь пространства со временем обнаруживается, в частности, в том, что мозаика пространства, состоящая из множества отдельных частей, не считается данностью раз и навсегда, она всегда требует периодического возобновления. «Стык» цикличного времени, на котором встречаются конец старого цикла и начало нового, является моментом распада прежнего единства пространства и конституирования этого единства заново. Иными словами, принципиально важно отметить, что пространство отнюдь не считается некоторой натуральной данностью , оно не дано само по себе и не может существовать без человеческих усилий по сохранению составляющих его частей.
В сознании современного человека пространство мыслится абстрактно, как расстояние от человека до объекта осязания [7], как некий порядок расположения одновременно существующих объектов [8]. Однако такому пониманию пространства предшествует множество других мыслительных усилий в истории человечества, появление нескольких его научных и философских трактовок. Полностью сформировавшееся представление о пространстве, так называемое мифопоэтическое пространство, мы находим уже в архаичной картине мира. Оно породило множество бинарных пространственных оппозиций и координат и предопределило в целом развитие современной теории об универсалиях бытия.
Дальнейшая разработка дефиниции «культурного пространства» может быть дана адекватно при его сравнении и сопоставлении, например с категориями «пространство культуры », «культурный ареал», «культурная среда» . При этом не следует забывать мудрую мысль М.М. Бахтина, хотя и высказанную в отношении культуры вообще, но справедливую по отношению к объекту нашего анализа: «Не должно, однако, представлять себе область культуры как некое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет. Она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее... Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает» [9].
Близким к понятию культурного пространства является понятие культурного ареала, обычно используемое для выделения в пространстве распространения той или иной культуры, более локальной зоны распространения каких-либо черт, форм, диалектов и т.п. Отдельной темой (важ- ность которой и подчеркнул М.М. Бахтин) являются вопросы о границах размежевания разных культурных пространств и зоны их стыка, в пределах которых часто имеет место смешение элементов разных локальных культур. И хотя мы не ставили перед собой задачи анализа проблем размежевания на границах различных культурных пространств (это, действительно, тема отдельного разговора), мы все же, хотя бы в тезисном виде, очертим круг тех проблем, которые, с нашей точки зрения, актуализируют эту тему.
Прежде всего, отметим, что культура действительно творится на границах, и в этом смысле она - маргинальна. Правда, исторически сложилось так, что маргинальность у нас понимается как нечто негативное, так как обычно сравнивается с нормой (социальной, медицинской этической), любое отклонение от которой воспринимается как нарушение и угроза. Однако можно взглянуть на этот термин и иначе, сместив акцент на социальную и онтологическую ценность все той же маргинальности. Эта позиция, в частности, убедительно выражена в работах таких авторов, как В. Тэрнер. М. Элиаде, Ж. Деррида, Р. Барт, М. Фуко. Нужно просто вспомнить, что понятие «маргинальность» (от лат. margo - граница, край , marginalis - находящийся на краю) следует определять через его прямую корреляцию с понятиями «граница» и «предел».
Интуитивно мы все догадываемся, что любое культурное пространство, любой культурный ареал имеет свои пределы, свои границы. Однако показателен тот сегодняшний интерес философов и культурологов «к измененным состояниям сознания, пограничным ситуациям, абсурдности, парадоксальности, всему тому, что может обнаружить предел возможностей, в том числе и предел возможностей познания, показать масштаб человеческого в человеке, быть местом встречи с принципиально Другим. Такой подход, отмечает О.С. Фролова, можно обозначить как « маргинальную антропологию» [10].
В современной отечественной философской мысли теорию маргинальной антропологии активно разрабатывает С.П. Гурин. Маргинальная антропология, по его мнению, «должна изучать пограничные феномены человеческого бытия и стратегии поведения человека на границе» [11]. Среди таковых, на наш взгляд, имеющих прямое отношение к объекту нашего исследования, можно выделить:
-
- освоение, обнаружение границ культурных пространств;
-
- избегание, отталкивание от границы, поскольку граница предстает как нечто опасное и враждебное для собственного культурного пространства;
-
- стремление к границе, поскольку граница притягивает к себе, как новое и особенное, а «запретный плод», как известно, всегда «сладок»;
-
- стирание, размывание границ культурного пространства, отказ признавать различия, пренебрежение границей;
-
- пребывание на границе в пограничной ситуации, в неопределенности;
-
- расширение, размыкание границ культурного пространства, развитие, совершенствование человеческого опыта и межкультурного диалога ;
-
- пересечение границы, ее преодоление (подвиг), нарушение границ (преступление), разрушение границ культурного пространства;
-
- пребывание за границей, по ту сторону, в ином культурном пространстве, в иных сферах человеческого бытия.
Как видим, доказывать каким-то особым образом актуальность маргинальной антропологии в социокультурном смысле, особенно для развития теории культурных пространств, не имеет никого смысла - она очевидна. Однако следует признать, что до сих пор остаются не изученными онтологические основания маргинальных феноменов в обществе и культуре. К сожалению, пока отсутствует как культур-философская, так и культурологическая теория маргинальности в целом.
Формирование первых представлений о пространстве начинается уже в палеолите на основе попыток осмысления различных силовых воздействий, процессов движения и изменения. Но эти попытки были обусловлены жесткой необходимостью антропогенеза, поскольку определенное осмысление пространства выступает как условие существования человека . «Для кочующих племен, - как полагает А.И. Пигалев, - не существует никакого объемлющего пространства, в котором протекала бы его жизнедеятельность. Они способны воспринять в качестве пространства только особо выделенные и разрозненные области - путь кочевок и тропу войны, алтари и площадки для ритуальных танцев и др.» [12]
Пространство при этом оказывается не зрительным образом, а воспринимается динамически - как испытание, как то, что нужно преодолеть и освоить, как путь преследования и охоты, что, в конечном счете, рождает архетип «трудного пути», приобретший истинное значение в более поздние времена.
Дальнейшее развитие представлений о пространстве начинает формироваться только при переходе к оседлости. «Уже сам это переход, - по мнению А.И. Пигалева, - требовал определенной «территории», т.е. такой области пространства, которая объемлет собой человеческую жизнедеятельность, имеет свою «внутренность» и «отграничена» от «внешнего» пространства. Принципиальная особенность такой «территории» - ее сверхчувствительный характер: целиком она не может быть воспринята с помощью человеческих органов чувств. Именно поэтому «территория» не открывается, а конструируется, она, как и культура в целом, не естественное, а искусственное образование» [13].
Первые оседлые культуры должны были составить пространство своего обитания из множества пространств, доступных органам чувств, и так согласовать их друг с другом, что возникло единое и одинаково устроенное для всех, т.е. общее пространство. Для этого культурой вырабатываются особые ритуальные действия, потребовавшие, например, замены духов богами и строительства особых культовых сооружений - храмов.
Непременные символы, обеспечивающие оседлость, это прежде всего Небо и Земля, священный брак которых обеспечивает проецирование небесного порядка на землю. А храмы служат теми выделенными областями, где небо опускается на землю: поэтому, в частности, с самого момента своего возникновения они ориентируются на четыре стороны света (отсюда - крест как символ). Так возникает ориентированная и измеренная территория, без которой никакая оседлость, а стало быть, и цивилизация немыслима.
В сознании архаичного человека пространство воспринимается как целостное чувственно постигаемое образование между Небом и Землей, частью которого является сам человек и внутри которого он относительно свободно перемещается . «Пространство здесь, - как полагает Е.С. Кубрякова, - представляется как расстилающаяся во все стороны, доступная для обозрения протяженность, сквозь которую скользит взгляд человека» [14].
В эпоху первобытности культурным пространством была территория жизнедеятельности того или иного рода - «пространство обитания», которое делилось на собственно жилое пространство (стоянку) и пространство кормления (охоты и собирательства). Выделялось еще и сакральное пространство (обычно пещера и площадка перед ней, где хранились предметы почитания и совершались магические обряды). Такая пещера могла располагаться поблизости от стоянки или в отдалении от нее; именно в этих пещерах и выполнялись наскальные рисунки, хранились сакральные реликвии и в них (или на ритуальных площадках перед ними) совершались коллективные ритуальные обряды.
Видимо, эти пещеры олицетворяли собой в первобытной культуре и потустороннее пространство - зону обитания духов и умерших предков. Вместе с тем, по версии А.Я. Флиера, «четкого разделения на сакральную и профанную зоны не отмечается; ритуальная утварь и магические предметы (статуэтки) изготовлялись на территории стоянки, и, видимо, часть ритуалов совершалась там же. Жилище уже по определению имело сакральный статус и олицетворяло собой мир -модель Вселенной. Захоронения осуществлялись, как правило, на территории стоянки, а нередко и в самих жилых постройках» [15].
Современные исследователи народов, сохранившихся на первобытном уровне развития, подтверждают, что и сама стоянка имела двойной статус профанного и сакрального пространства одновременно.
Итак, для архаичного сознания пространство является реальным, физическим, окружающим пространством-миром, которое конституируется и организуется конкретными вещами. Но уже на заключительном этапе мифопоэтической эпохи вырабатываются основы преднаучной картины мира, т.е. тенденция трактовать пространство как нечто относительно однородное и равное самому себе в своих частях, пространство, в котором ориентируются и которое поддается измерению.
В эпоху аграрных цивилизаций в этой схеме произошли некоторые изменения. Границы распространения той или иной локальной культуры, с одной стороны, стали в основном совпадать с государственными границами моноэтнических государств или с этническими границами террито- рии расселения отдельных народов. С другой стороны, появление мировых религий создало обширные зоны их распространения среди многих народов. В этот период начали формироваться первые образования цивилизационного характера, в которые входили народы со многими общими элементами культуры.
Развитие межнациональных, торговых, военных и культурных контактов привело к появлению анклавов чужих культур (иностранных слобод) в крупных городах. Характерная деталь: города стали пространством концентрации светской культуры, тогда как монастыри - культуры религиозной. На эпоху эллинизма приходятся первые попытки смешения культурных форм разных народов. Для древнегреческой философии эквивалентом пространства становится Космос, пустота и воздух, иногда вместилище и место, но не бесконечность. Иными словами, «в античном мире, - как отмечает М.П. Титова, - пространство лишается конкретности и границ, приобретая абстрактность, абстрагирование от вещей, гомогенность и нередко бесконечность. Но, вместе с тем, оно обращено к человеку телесному, человеку как телу среди других тел» [16].
В период Средневековья и перехода его в Новое время (Ренессанс) происходят первые попытки синтеза культурных форм разных эпох. Жилище постепенно начало утрачивать свой сакральный статус, появились светские общественные и административные сооружения. Сакральное пространство стало воплощаться в культовых постройках и прилегающим к ним территориях. Сакральный статус получили и кладбища, под которые стали выделять специальные площадки. Культовые объекты стали местом сосредоточения искусства, грамотных людей, местом созидания и хранения интеллектуальных и художественных произведений. Особыми сакральными пространствами стали места массового, религиозного паломничества.
Что касается осмысления категории пространства в этот период, то оно хорошо прослеживается в философской системе Р. Декарта, который понимал пространство как атрибут мира и определял его через протяженность в длину, ширину и глубину. Протяженность, образующее пространство, образует и тело. Однако разница между ними состоит в том, что телу приписывается определенная протяженность, а пространству - общее и неопределенное, которое к тому же сохраняется, если из него устранить тело [17].
В философии XVII-XVIII вв. складываются два типа пространства, которые продолжают свое существование и по сей день: абсолютное («пустое») пространство Ньютона и относительное («объективно-заполненное») пространство Лейбница. В теории Ньютона пространство трактуется как первичная, самодостаточная категория, как бесконечная протяженность, независимая от материи и не определяемая материальными объектами, в нем находящимися. С точки зрения Лейбница, наоборот, пространство относительно, зависит от имеющихся в нем вещей и определяется порядком сосуществования объектов .
Эпоха индустриальной цивилизации значительно увеличила номенклатуру специализированных культурных пространств. По мнению А.Я. Флиера, «...Отделение искусства, книгоиздательства и образования от религии привело к образованию особых культурных пространств - художественных: мастерских, театров, выставок, концертных залов, музеев, позднее киностудий и кинотеатров, радио- и телестудий; книжных: книгоиздательств, книжных магазинов, библиотек ; образовательных : школ, разнопрофильных высших учебных заведений, учреждений дошкольного воспитания. Появились новые области культурной деятельности и соответствующие культурные пространства: система охраны культурного наследия и охраняемые объекты и территории, а также музеи нехудожественного профиля и общедоступные архивы ; это же пространство и стало зоной активного туристического посещения, система организованного досуга и соответствующие учреждения: клубы, дома культуры и т.п.» [18].
Помимо этого, формирование системы национальных государств привело к тому, что государственные границы стали более точно соответствовать зонам расселения тех или иных этносов и пределам распространения их локальных культур. Одновременно, благодаря интенсификации международных культурных контактов, развитию массового образования, печатных и электронных СМИ, существенно расширилось пространство знания разных народов друг о друге и о культурах народов всего мира. В Х1Х-ХХ вв. литература и искусство всех народов превратились в международное культурное достояние, расширив зону своего распространения практически до общечеловеческих масштабов.
Постиндустриальная эпоха унаследовала достижения индустриальной, технически усовершенствовав и интенсифицировав, прежде всего, процессы международного распространения зна- ний о культуре и мультикультурации - создания культурных явлений на базе синтеза культурных форм разных эпох и народов.
Как уже отмечалось выше, в настоящее время сохраняется понимание пространства с двух позиций (по Ньютону и по Лейбницу), причем разница между ними, в конечном счете, состоит в том, что первое отвлечено от человека-наблюдателя, от фактора восприятия пространства человеком, а второе, напротив, одушевлено его присутствием, трактуется и прочитывается человеком [19]. Ньютоновское пространство принадлежит физике и геометрии, а лейбницевское относится, скорее, к области человеческих представлений о мире, к «наивной философии мира» [20]. Действительно, в обыденном сознании пространство обычно представляется нам как порядок расположения существующих объектов или как расстояние между ними и от человека до объекта осязания [21], что ближе к лейбницевскому осмыслению данной категории.
Некоторые исследователи склонны полагать, что русскому сознанию и менталитету ближе трактовка пространства по Лейбницу. Однако мы придерживаемся точки зрения большинства ко-гнитологов (Л. Телми, А. Херскович, Р. Ленекер, Б. Ландау и др.), которые полагают, что современный человек не может отвлечься ни от чувственных элементов восприятия пространства, ни от его геометрической концептуализации.
Е.С. Кубрякова объясняет это положение тем фактом, что две названные трактовки возникли на основе одного и того же исходного представления о пространстве, но рассмотренного в разных ракурсах. В зависимости от личностных установок человека в фокусе его внимания оказываются разные компоненты ситуации, профилируются разные стороны происходящего. И если все наблюдаемое и видимое осмысливается нами в пространстве, которое заполнено объектами, то в одном случае внимание концентрируется на окружающих нас объектах, а в другом - на самом пространстве. Получается, что фон и фигура как бы меняются местами, в чем и заключается смысл различий в трактовках Лейбница и Ньютона, которые выбрали свои собственные позиции наблюдения пространства [22].
Итак, в современной научной картине мира синтезируются результаты развития философии с данными естественных наук, и противоположность двух вышеупомянутых подходов снимается. В результате пространство трактуется как всеобщая форма бытия материи и ее важнейший атрибут. Нет материи, не обладающей пространственными свойствами, как не существует и пространства самого по себе, вне материи и независимо от нее.
На сегодня в научной концепции пространство наделено следующими свойствами:
-
- неразрывная часть со временем и с движением материи;
-
- зависимость от структурных отношений и процессов развития в материальных системах;
-
- протяженность (рядоположенность и сосуществование различных элементов - точек, отрезков, объемов, возможность прибавления к каждому данному элементу некоторого следующего элемента либо возможность уменьшения числа элементов;
-
- связность (отсутствие «разрывов» в пространстве);
-
- относительная прерывность (раздельное существование материальных объектов и систем, имеющих определенные размеры и границы;
-
- трехмерность [23].
В порядке общего вывода остается только подчеркнуть , что независимо от дисциплинарной принадлежности исследования, будь оно естественно-научное, техническое или гуманитарное с вышеназванными характеристиками пространства, необходимо считаться, и, может быть, в выигрышном положении окажется как раз тот аналитик, который полностью признает комплексный, интегративный характер этого сложнейшего феномена.