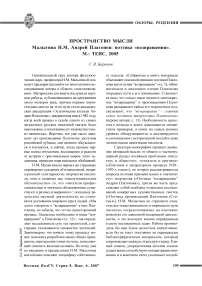Пространство мысли. Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: ТЕИС, 2005
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975123
IDR: 14975123
Текст статьи Пространство мысли. Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: ТЕИС, 2005
Основательный труд доктора филологических наук, профессора Н.М. Малыгиной подводит предварительный итог многолетним исследованиям автора в области «платоноведе-ния». Материалом для книги послужили научные работы, публиковавшиеся на протяжении около четверти века, причем первым значительным шагом на этом пути стала кандидатская диссертация «Эстетические взгляды Андрея Платонова», завершенная еще в 1982 году, когда всей правды о судьбе одного из самых загадочных русских писателей сказать было невозможно, а постижение его творчества только начиналось. Впрочем, вот уже около двадцати лет произведения Платонова доступны российской публике, они активно обсуждаются и изучаются, и сейчас, когда прошли первые волны изумления, восхищения и радости от встречи с оригинальным миром этого художника, приходит пора выводов и обобщений.
Н.М. Малыгина на первых же страницах опровергает суждения об изначальной, непреодолимой «элитарности» творчества писателя, хотя и отмечает как «малоутешительное обстоятельство» то, что «читатели профессиональные и читатели обыкновенные существуют в разных измерениях»1, поскольку результаты научной деятельности не становятся достоянием широкого круга людей. «Мы долго говорили о “возвращении” к нам Платонова, но забыли, что это не односторонний процесс. Оказалось необходимо и наше “возвращение” к Платонову» (с. 12) – так определяет исследователь суть тех трудностей, с которыми сталкивается множество читателей. Закономерно, что начало этому процессу может положить разработка неких общих принципов, определение точки отсчета, позволяющей охватить явление целиком. Поэтому уже во введении и предисловии Н.М. Малыгина настойчиво поясняет специфику собственно-
го подхода: «Собранные в книге материалы объединяет основной принцип поэтики Платонова как поэтики “возвращения’’» (с. 5); «Внимательное и медленное чтение Платонова открывает пути к его пониманию. Становится ясно, что только такое чтение и многократное “возвращение’’ к произведениям Платонова раскрывают тайны его творчества и подсказывают, что “возвращение’’ – главный закон поэтики творчества Платонова » (курсив автора; с. 13). Необходимость целостного подхода в книге доказывается множеством примеров, а связи на самых разных уровнях обнаруживаются и анализируются в соотношении с исторической эпохой и даже личностными качествами писателя.
Структура монографии отражает движение авторской мысли от общего к частному: первый раздел посвящен проблемам «писатель и общество», «писатель и критика» («Платонов в литературном процессе 1920– 1930-х годов»), во втором рассматриваются вопросы поэтики применительно к «метатексту» творчества («Поэтика “возвращения’’ Андрея Платонова»), третья же часть представляет собой подборку отдельных исследований конкретных художественных текстов [«Поэтика произведений Платонова (Статьи)»]. Н.М. Малыгина не стремится охватить все этапы жизненного и творческого пути писателя, сосредоточившись на ключевых моментах его довоенной московской деятельности, и это выглядит вполне оправданным в свете поставленных задач. Работа производила бы еще более целостное впечатление, если бы ее текст постоянно не перемежался библиографическим материалом, который сопровождает каждую отдельную главку. Единый список, упорядоченная система ссылок существенно способствуют концентрации внимания и в конечном счете усиливают воздей- ствие авторской концепции. Не случайно ведь Н.М. Малыгина утверждает, что «путь чтения и проникновения в смысл произведений Платонова – путь восхождения к вершинам духовности и свету истины» (с. 21). Во всяком случае, разнообразие и некоторая пестрота объединенных в книге исследований полностью сглаживаются за счет того, что сам ее автор придерживается платоновского «принципа возвращения» и неоднократно заставляет читателя вспомнить об усвоенном ранее.
Первая часть книги начинается с размышлений о художественном методе Платонова и его истоках. Специфика «символического реализма» писателя обозначена как сплав нескольких источников, причем для Н.М. Малыгиной не подлежит сомнению значительное влияние «пролетарской культуры» или «соцреализма» (с. 28). Действительно, порой кажется, что Платонов похож на многих своих героев: малообразованный российский человек, потрясенный, «ушибленный» бесконечно далекой от него социалистической идеологией. В этом плане особое значение вполне могут иметь, как отмечается в монографии, писания деятелей Пролеткульта, Богданова и Гастева, кубофутуристов вообще и Хлебникова в частности. Но не менее важно и то, что «Платонов – один из немногих художников своей эпохи, кто сумел сохранить индивидуальность, остаться верным своим убеждениям» (с. 31). Глава, посвященная литературному авангарду, содержит интересные наблюдения об «образе взрыва», влиянии Гоголя и идей Потебни, полотнах Филонова и Малевича. Новизна творческих установок Платонова подтверждается наличием мотивов «борьбы с солнцем» и «преображения жизни», однако здесь хотелось бы не только прояснить вопрос о теоретиках ЛЕФа, но и обозначить параллели с установками «младосимволис-тов», о чем упоминается в седьмой главе. Н.М. Малыгина уделяет значительное внимание советским дискуссиям 1920-х годов и позиции Платонова по отношению к РАППу и «Перевалу», попыткам писателя объясниться с властями и просто выжить в этом абсурдном мире (глава 2). Единственное обстоятельство, оставляющее сомнения, – насколько правдивыми являются заведомо подвергающиеся цензуре публикации Платонова в прессе того времени. Контраст между «грустными уродами» современности и требованием изобразить «сверхчеловека коммунизма» приводит к тому, что «творческий метод Андрея Платонова соединял реалистически достоверное исследование действительности с проектированием и испытанием моделей будущего» (с. 67).
Данный метод соединяет элементы реализма, символизма, фантастики и даже натурализма, а для его обозначения предлагается использовать термин «неореализм». В заключительной главе первой части воспроизводится «диалог Платонова с критикой 1930-х годов», окололитературный спор, в котором одним из наиболее достоверных свидетельств оказывается секретная справка ОГПУ (с. 76). Н.М. Малыгина указывает на причины появления мифа о «перестройке» Платонова, и удивительно, что при этом создается ощущение известной правоты догматической критики и власти, отвергавших писателя как «чуждый элемент». Одиночество и юродство, столь привычные в его мире, никак не согласуются с установками Фадеева или Сталина, но «истинную причину травли» автор книги видит в другом: «Литературные администраторы завидовали популярности и авторитету, а главное – гению Платонова» (с. 90).
Платонов-критик также может вызывать противоречивые оценки (с. 95). Стоит помнить, что при фактическом запрете на публикации прозы рецензии стали для него едва ли не последним источником существования, и потому вполне объяснимо стремление обеспечить их абсолютную совместимость с идеологией. Н.М. Малыгина не ограничивается столь низменными причинами и находит высшую цель работы писателя в периодике: «Сотрудничество Платонова с редколлегией журнала “Литературный критик” было вызвано глубоко осознанной им необходимостью отстоять принципы реализма в советской литературе, утвердить собственное право на высказывание правды о жизни» (с. 104). Художественная практика соотносится с теорией во второй части книги, и уже первая из ряда глав, посвященных поэтике, доказывает зависимость платоновской утопии от восприятия настоящего. Исследование мотива апокалипси- са содержит множество метких наблюдений и характеристик, убеждающих в правомерности использования определенного религиознофилософского контекста (Достоевский, Н. Федоров, Библия), что позволяет осуществить плавный переход к следующему разделу: «Человек как проект “высшего’’ существа: типы персонажей творчества Платонова». Данная классификация опять же органично связана с религиозными представлениями писателя (с. 132) и подразумевает выделение таких стадий развития, как почти мертвая материя, человек-растение, низшее животное (насекомое), птица и зверь, «воскресший» человек (с. 145), сверхчеловек (творец) и, наконец, «сокровенный человек», подвижник. Особо интересует Н.М. Малыгину развитие персонажей и «модель восхождения» (с. 166) героя к высшим уровням существования. Далее предметом анализа становится прототип сюжета прозы Платонова, выделяются его «космическая» и «земная» разновидности с определением библейских и фольклорных источников, а также «архаичная мифологическая схема» (с. 185) и постоянные элементы универсальной сюжетной модели. Завершающая глава работы посвящена образам-символам Платонова именно в их системных взаимосвязях, «синонимическим рядам», берущим начало еще в ранней книге стихов «Голубая глуби- на». Их смысл помогают постичь не только литературные и философские параллели, но и концепции современного писателю естествознания. Важнейшие для Платонова традиции, по мнению автора книги, восходят к наследию Гоголя, Достоевского и русских символистов, а «существенным качеством платоновской прозы является ее “изоморфизм’’ – модификация принципа “всеединства’’...» (с. 231).
Глубина авторской мысли, соединенная с истинно научным подходом, позволяет книге Н.М. Малыгиной претендовать на одно из первых мест в современной исследовательской литературе. Такого впечатления не нарушают и присущий некоторым ранним работам лаконизм, и незначительное количество опечаток (к примеру, «пустая» ссылка 44а на с. 154). Хочется верить, что «возвращение к Платонову» усилиями таких специалистов состоится уже в ближайшее время, а знаменитая «тайна Платонова», оставшись непостижимой, будет вещью привычной и повседневной, как тайна бытия.
Список литературы Пространство мысли. Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: ТЕИС, 2005
- Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М.: ТЕИС, 2005. С. 11