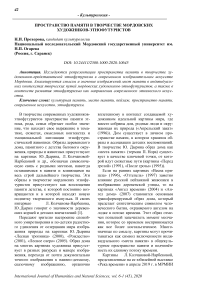Пространство памяти в творчестве мордовских художников-этнофутуристов
Автор: Прохорова Н.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6-1 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуются репрезентации пространства памяти в творчестве художников-представителей этнофутуризма в современном изобразительном искусстве Мордовии. Анализируются смыслы и значение изображений мест памяти в индивидуальных контекстах творческих путей мордовских художников-этнофутуристов, а также в контексте развития этнофутуризма как направления современного этнического искусства.
Культурная память, место памяти, пейзаж, пространство памяти, современное искусство, этнофутуризм
Короткий адрес: https://sciup.org/170187810
IDR: 170187810 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10645
Текст научной статьи Пространство памяти в творчестве мордовских художников-этнофутуристов
В творчестве современных художников-этнофутуристов пространство памяти этноса, рода, семьи обретает особое значение, что находит свое выражение в тематике, сюжетах, смысловых контекстах и эмоциональной интонации этнофутури-стической живописи. Образы деревенского дома, памятного с детства бытового окружения, природы и животных присутствуют на картинах Ю. Дырина, Л. Колчановой-Нарбековой и др., обозначая символическую связь с родными местами, навсегда оставшимися в памяти и влияющими на весь строй дальнейшего творчества. Эти образы в творчестве мордовских этнофутуристов присутствуют как воплощения памяти детства, к которой постоянно возвращаются и в которой находят новую подпитку творческого импульса. В своих интервью Л. Колчанова-Нарбекова, Ю. Дырин говорят о значимости деревенских корней и детских впечатлений [1].
Передают зрителю настроение спокойного умиротворения и по-детски радостного удивления от созерцания мира изображения природы на картинах Ю. Дырина «Лесная тропинка» (2000), «Рождество» (2001), «Лесное озеро» (2005). Образ дома на многих картинах художника присутствует в разных ракурсах и манере изображения, переходя от почти документально точного изображения к наивно-детскому, сказочному изображению, органично вплетенному в контекст создаваемой художником идеальной картины мира, где вместе собраны дом, родные люди и окружающая их природа («Апрельский закат» (1996)). Дом существует в личном пространстве памяти, в котором хранятся образы и ассоциации детских воспоминаний. В творчестве Ю. Дырина образ дома как «места памяти» (термин П. Нора) существует в качестве ключевой точки, от которой идут сюжетные пути (картины «Перед грозой» (1991), «После грозы» (1995)).
Если на ранних картинах «Весна пришла» (1996), «Оттепель» (1997) заметно влияние русской пейзажной живописи в изображении деревенской улицы, то на картинах «Ангел времени» (2004) и «Ангел дома» (2007) становится основным трансформируемый образ дома, который предстает синтетическим символом человеческого бытия, охраняемого ангелом на лодке в потоке времени. Этот образ отмечен попыткой запечатлеть момент молчания, которое со временем воспринимается как все более ностальгическое. Многозначные по смыслу, картины могут прочитываться как символ включенности индивидуального «места памяти» в общекультурное пространство памяти и подчинённость их единому потоку времени.
Картины Л. Колчановой-Нарбековой, представленные на ее юбилейной выставке «Река времени» в апреле 2019 г. в МРМИИ им. С. Эрьзи обращены к детским воспоминаниям («Бабушкин сон» (1992), «Мое детство» (2017)). Вписывая пласт семейной истории в канву современной истории, создают живописную летопись памятных событий картины «Рождение детей» (1999), триптих «Мое житие» (2000), «Мое житие-2» (2018).
На картине «Бабушкин сон» (1992) особая атмосфера деревенского уюта создается цветовой гаммой, изображением домашнего интерьера с предметами быта, уже ушедшего, а также особой перспективой, задаваемой восприятию зрителя. Художница, а вместе с ней и зритель, видят фигуру бабушки, весь интерьер дома, как бы проецируя взгляд из вечности на кадр-воспоминание прошлого. Так индивидуальная и семейная история включаются в культуру, в конечном итоге мифологизируются, возвышаясь от житейски-бытового уровня до символически-житийного. «В событии, по определению, всегда нечто происходит; но отнюдь не всегда оно обладает и бытийной значимостью, являясь бытийным событием. Человек становится бытийным, различая бы-тийность; бытие становится человечным, будучи различаемо человеком. Слитность этих сторон и образует бытийное событие…» [2]. В своих картинах Л. Колчановой-Нарбековой удается показать круговерть обыденного круга жизни семьи как обретающую смысл обращенного к вечности цикла бытийных событий.
В этнофутуризме пространство памяти является точкой отсчёта для последующей творческой практики. Как отмечает П. Нора, «память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспомина- ниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям» [3]. Именно память прошлого в разных его репрезентациях является твор- этнофутуристов. Так осуществляется сохранение культурной памяти народа и передача его последующим поколениям в творческих образах.
Вместе с тем, остаётся открытым вопрос о той части заявленного идеологами этнофутуризма содержания этого направления, которое относится к формированию будущего. К. Салламаа в своем программном выступлении «Философия и эстетика этнофутуризма» главным делом этнофуту считал создание и укрепление городской культуры тех народов, которые до сих пор остаются крестьянскими [4].
Очевидно, «будущее» («футу») в художественной практике этнофутуризма не может выражаться только в использовании современных материалов и новых техник, но само название этого художественного направления предполагает моделирование образов будущего в этническом контексте в содержании изображаемого или, по крайней мере, присутствие таких образов.
Говоря о дальнейших путях развития этнофутуризма, можно предполагать, что оно не останется в истории искусства направлением запечатленных воспоминаний о прошлом, замкнутом на восроизведении следов как индивидуальной, так и исторической памяти. Необходимость диалога с будущим, которое проявляет себя в формировании новой инфосреды, важность освоения актуальных горизонтов ощущается и самими художниками, предлагающими зрителю попытку взгляда из освоенного ими мира этники на современный мир информационных технологий (например, серия графических работ Ю. Дырина «Смайлики» (2019), диптих Л. Колчано-вой-Нарбековой «Дополненная реальность» (2019)). Несмотря на необходимость обновления этнофутуристической программы, уже сейчас можно утверждать, что этнофутуризм состоялся как художе- ственное направление и со временем, как комплекс запечатлённых художниками мест памяти, сам будет представлять место памяти в общем пространстве культурной ческим стимулом для художников- памяти этноса.
Список литературы Пространство памяти в творчестве мордовских художников-этнофутуристов
- Ugriculture 2000: contemporary art of the fenno-ugrian peoples. Helsinki: Erikoispaino Oy, 2000. P. 13.
- Логинова М.В. Проблема молчания в культуре // Фундаментальные проблемы культурологии. СПб.: Алетейя, 2008. С. 315.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1999. С. 18.
- VI Международный конгресс финно-угорских писателей: Сб. докл. и выступлений / Ассоц. финно-угорских литератур; Отв. за вып. В.И. Мишанина. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. - С. 27.