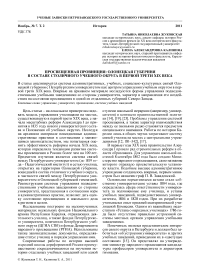Просвещенная провинция: Олонецкая губерния в составе столичного учебного округа в первой трети XIX века
Автор: Жуковская Татьяна Николаевна, Калинина Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (120) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Управление, университет, просвещение, система учебных заведений
Короткий адрес: https://sciup.org/14750011
IDR: 14750011
Текст статьи Просвещенная провинция: Олонецкая губерния в составе столичного учебного округа в первой трети XIX века
Цель статьи – на локальном примере исследовать модель управления училищами на местах, существовавшую в первой трети XIX века, с начала масштабных реформ Александра I до принятия в 1835 году нового университетского устава и Положения об учебных округах. Исследуя на архивном материале повседневные административные практики в соотнесении с меняющимся законодательством, мы попытаемся оценить эффективность реформы начала XIX века, которая определила тенденции развития системы просвещения в России более чем на 100 лет. Предметом изучения является система связей между Петербургским университетом (до 1819 года – Педагогический институт) и сетью училищ, открытых на территории Олонецкой губернии, вошедшей в состав столичного учебного округа, в частности связей между Петербургским университетом и Олонецкой губернской гимназией. Реконструкция системы управления подведомственными учебными заведениями со стороны университета, представленная в соотнесении норм и административных практик, позволяет дать оценку состоянию просвещения и школьного дела в регионе в целом.
Исследование построено на малоизученных материалах нескольких фондов Национального архива Республики Карелия, отражающих дея тельность училищ, а также фондах Петербургского университета, попечителя Петербургского учеб ного округа (ЦГИА СПб) и фонде Департамента народного просвещения (РГИА). Использованы также законодательные документы, определявшие статус училищ и порядок управления ими.
Современные работы по истории высшей и средней школы дореформенной России преимущественно сосредотачиваются на изучении истории отдельных учебных заведений или одной
ступени школьной иерархии (например, университетов) в контексте правительственной политики [14], [19], [23]. Проблемы управления системой просвещения, а также характер взаимодействия между ее звеньями редко становятся предметом специального внимания. Работы по истории Карелии лишь в общих чертах затрагивают систему связей училищ на местах с центральными учреждениями [12; 181–342], [17].
В первые годы XIX века правительство Александра I провело ряд стремительных реформ в области образования. Для управления школьной системой 8 сентября 1802 года было создано Министерство народного просвещения, само название которого отражало просветительскую установку власти. Подобное высшее административное учреждение создавалось впервые, первым министром был назначен граф П. В. Завадовский.
Основными нормативными актами стали собственно университетские уставы 1804 года, где определялась сфера ответственности университета за подчиненные ему училища, и уставы учебных заведений, подведомственных университетам, 1804 и 1828 годов. При их разработке учитывался опыт прежней екатерининской училищной Комиссии. Одним из важнейших недостатков «Устава о народных училищах» 1786 года было отсутствие правильно устроенной системы местных органов управления учебными заведениями.
Попечитель являлся представителем интересов своего округа в Петербурге и должен был заботиться «об устроении университета» и других учебных заведений, приведении их в «цветущее состояние» [15]. Он представлял на утверждение министру народного просвещения кандидатуры профессоров университета и директоров гимназии.
Каждый из губернских городов округа должен был иметь свое губернское училище или гимназию, находившуюся под наблюдением университета. Губернские директора народных училищ назначались Главным правлением училищ по представлению университетов и утверждались министром. Их выбор вначале был невелик, хотя предполагал не только желание, но и способности кандидата руководить училищами. Некоторые чиновники сами отправляли на имя министра просвещения заявления о желании занять пост директора училищ. Например, в июле 1804 года А. Е. Крылов, обращаясь к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцеву, писал, что место директора народных училищ Олонецкой дирекции вакантно, и он «желал бы продолжить оное… начальством» [7]. Директор народных училищ был одновременно и директором губернской гимназии, в его подчинении находились и все другие училища губернии, в том числе частные пансионы.
В каждом уездном городе полагалось устроить по одному уездному училищу. Смотритель уездных училищ становился, в свою очередь, начальником всех училищ своего уезда. По представлению директора народных училищ штатных уездных смотрителей утверждал также университет.
При образовании Петербургского учебного округа университет в столице еще только предполагалось открыть. Однако Педагогический институт учреждался в 1804 году как отделение университета и с самого начала выполнял некоторые функции университета в своем округе, включая надзор за училищами.
К Петербургскому учебному округу были отнесены Петербургская, Новгородская, Псковская, Вологодская (с 1824 года), Архангельская, Олонецкая губернии. Из них Олонецкая была наиболее слабозаселенной, с неразвитой сетью дорог, малым количеством крупных поселений. Единственным городом, сложившимся вокруг крупного промышленного предприятия (Александровского чугунолитейного завода) и к началу XIX века имевшим городскую по стилю хозяйственную и культурную жизнь, был Петрозаводск. В нем с 1796 года действовало Главное народное училище.
Главные народные училища, существовавшие в губернских городах, постепенно преобразовывались в губернские гимназии. Малые народные училища в уездных городах были превращены в уездные училища. Кроме того, появляются городские и сельские приходские училища.
В 1820-х годах по числу уездных училищ и начальных школ, по количеству учащихся в них Олонецкая губерния далеко отставала от других губерний округа. В отчете Санкт-Петербургского университета за 1828 год по Олонецкой дирекции народных училищ были упомянуты лишь приходские училища, помещавшиеся вместе с уездными, в уездных городах – Петрозаводске, Олонце, Каргополе, Вытегре, число учащихся приходских училищ не указано [18; 664–665]. С другой стороны, в «Ведомости о времени основания учебных заведений в Олонецкой губернии с 1803 по 1826 г.» указывалось, что в 1826 году действовало 21 училище, из них в Петрозаводском уезде – 10 школ, в Вытегорском – 4, в Каргопольском – 7. В Ведомости также отмечалось общее количество учащихся в народных школах губернии – 360, но конкретных данных о количестве учеников по уездам и отдельным школам не приводилось. В 1830 году в Олонецкой губернии числилось всего 9 школ, в них обучалось 35 учеников. Такое положение с начальными училищами было много хуже, чем в соседней Вологодской губернии и тем более в Псковской или Смоленской губерниях, включенных в это время в состав Петербургского учебного округа. Гораздо успешнее развивалась Олонецкая губернская гимназия.
По уставу университетов, при университете создавался Училищный комитет «для удобнейшего производства дел, к училищам относящихся» (ст. 165) [21]. Этот Комитет, имея широкий круг полномочий, осуществлял непосредственную связь с губернскими директорами училищ. Все донесения о состоянии училищ, ведомости о составе учебных заведений, данные об учителях и учениках, хозяйственные отчеты по дирекции, просьбы, представления директоров училищ поступали в Комитет, а тот, в свою очередь, разъяснял, давал разрешения, наставления, требовал объяснений по различным вопросам (ст. 166). Училищный комитет имел право ходатайствовать перед Советом университета о награждении «достойных» учителей (ст. 170), а также увольнять учителей и чиновников с должности, если «они окажутся недостойными звания» (ст. 167). Ежегодные отчеты директоров народных училищ поступали сначала в Училищный комитет, затем с заключением Комитета в Совет университета.
Совет рассматривал отчеты губернских директоров училищ и доставлял общий отчет по всему подведомственному учебному округу попечителю, который, в свою очередь, представлял донесение министру народного просвещения. Университетское правление занималось решением всех важных хозяйственных вопросов (ст. 175).
Практики управления округом включали периодическую отчетность с мест и регулярные обозрения училищ представителями центра. Эта система повторялась на двух уровнях: Совет университета рассматривал отчеты начальников дирекций училищ в губерниях и, в свою очередь, направлял на места «визитаторов» из числа своих же профессоров. Директора училищ получали отчеты от уездных смотрителей, а те – непосредственно от учителей, и сами совершали регулярные инспекционные поездки по губернии.
В ведении Совета университета находилось определение «визитаторов из членов Училищного комитета или других профессоров, поручая каждому одну или две губернии по местному положению для осмотра» [21], снабжение их путевыми деньгами из штатной суммы. Порядок и цели визитаций были четко регламентированы. Визитаторы получили специальное «Наставление…», где указывалось, что они не только обозревают училища и составляют отчет о посещении, но «должны вести беседу с гражданами и дружески внушать пользу учения и советовать, чтобы они отдавали детей в училища» [5]. Кроме того, визитаторы оценивали деятельность губернского директора народных училищ: «какую наклонность привил он в жителях к заведению приходских училищ и вообще к просвещению» [5].
Университет разрабатывал учебные программы, утверждал к изданию учебные пособия, помогал в приобретении учебников и методических пособий. В делах Правления университета отложились формуляры учителей гимназий. Так или иначе, визитации попечителя и профессоров, регулярная переписка, объединенное делопроизводство свидетельствуют о тесной связи между университетом, гимназиями и уездными училищами, складывании системы наблюдения и администрирования по крайней мере на трех уровнях (исключая начальные училища, об управлении которыми речь пойдет ниже).
Губернская дирекция училищ наделялась широкими полномочиями, главной же ее обязанностью было составление отчетов о состоянии учебных заведений: о приходе и расходе сумм, об успеваемости учащихся, о материальной базе училищ, положении библиотек, о пожертвованиях в пользу дела просвещения.
Шестая глава училищного Устава «О директоре» подробно разъясняла права и обязанности губернского директора народных училищ. Директор наблюдал за всеми учебными заведениями в губернии, следил за точным исполнением Устава (ст. 69), отчитывался перед университетом. Он состоял в VII классе по Табели о рангах [15] на жаловании от 800 до 1000 руб. [16] (по Олонецкой губернии жалование устанавливалось в 1000 руб.). Директор входил с представлениями непосредственно к попечителю учебного округа, полностью подчинялся Правлению университета и имел право с его ведома обращаться с просьбами по делам училищ к губернскому начальству. Он испрашивал у Совета университета разрешения на продление отпусков преподавателей, представлял подробные отчеты и послужные списки состоящих в его ведомстве чиновников и учителей.
В 1804 году в помощь директору была введена должность штатного смотрителя училищ. Смотритель был подотчетен директору, ему вме- нялось в обязанность посещение уездного училища ежедневно, а «приходских училищ в уездах, по крайней мере, три раза в год» [22].
Система учебной иерархии по «Уставу училищ, подведомых университетам», принятому в 1828 году, сохранялась в прежнем виде. Главы нового документа посвящались организации и устройству приходских и уездных училищ, губернских гимназий, благородных пансионов, частных учебных заведений, а также правам и преимуществам всех училищ. Статьи «Устава» определяли права и обязанности директоров и смотрителей по ступеням училищной иерархии (приходские и уездные училища, гимназии, пансионы, частные школы). По сравнению с прежним «Уставом» произошло значительное усиление надзора за учебными заведениями. В штатное расписание дирекции народных училищ вводились новые должности инспекторов гимназий. Кандидатуры на эту должность назначал университет по представлению губернского директора училищ, а утверждал попечитель округа.
«Устав» 1828 года предполагал изменение периодичности обозрений губернии. Объезд губернии зависел теперь от количества училищ на территории дирекции. Если их число было значительным и они находились друг от друга на большом расстоянии, тогда с ведома университета губернию позволялось обозревать не ежегодно, а один раз в два года (ст. 175).
Дирекция народных училищ привлекала к инспекторским поездкам по уездным и приходским училищам губернии учителей гимназии. По окончании командировки учителя составляли подробные отчеты о состоянии школ. Такие обозрения в разное время составляли Г. К. Ореховский, Н. О. Куняев, М. И. Троицкий и др. При посещении училищ, особенно сельских, учителя встречались с крестьянами, духовенством, убеждали жителей открывать в деревнях приходские училища. Учителя совершали обозрение без дополнительного жалования, визитаторы ничего не получали, кроме прогонных денег.
Значительные изменения произошли в ведении отчетности по ведомству (ведение и проверка шнуровых книг по доходам и расходам учебных заведений, составление послужных списков чиновников, служащих в училищном ведомстве, отчеты по учебным заведениям, формирование архива дирекции училищ и т. п.). Определялась строгая периодичность подачи отчетов: по губернской гимназии отчеты составлялись каждую треть года, ежегодно посылалось общее донесение в университет. Кроме того, необходимо было представить полную роспись доходов и расходов по дирекции в губернскую казенную палату. За непредставление отчетов в срок директора училищ наказывались административными взысканиями, за подачу недостоверных сведений – предавались суду.
С усложнением системы финансирования, связанным с привлечением в денежные фонды учебных заведений средств из местных бюджетов, а также частных пожертвований, усложняется система финансовой отчетности и контроля за приходом и расходом сумм.
Смотрители уездных училищ отправляли свои отчеты по училищным суммам директору училищ, тот в свою очередь делал общий отчет по губернии и отсылал в Правление университета. Полный финансовый отчет по учебному округу после утверждения его попечителем округа университет представлял министру народного просвещения, который далее отправлял годовой отчет в целом по России в Государственный контроль. На пути следования отчетов с мест в центральные ревизионные органы происходили недоразумения. Санкт-Петербургский учебный округ (в отличие от других учебных округов) отправлял «подлинные частные ведомости, полученные от директоров училищ» [13]. Министр народного просвещения К. А. Ливен в 1830 году объяснял данное нарушение сложностью составления общего отчета по учебному ведомству, куда входило множество различных смет по расходам и доходам: отчет по департаменту Министерства народного просвещения, ведомости по суммам на постройку и ремонт училищных зданий, переписка по счетным делам и многое другое. «При всей ревности чиновников, едва можно успеть обрабатывать возложенные на них обязанности», – отмечал министр [13]. Он сетовал на то, что штаты Министерства просвещения и дирекций училищ недостаточно укомплектованы и сводить годовые отчеты при большом объеме текущей работы некому. В результате этого разбирательства в Министерстве народного просвещения был увеличен штат чиновников, которые занимались систематизацией отчетности и подготовкой годового отчета по ведомству. В помощь директорам училищ с 1828 года на местах были введены должности писца и письмоводителя «для производства канцелярских дел». В декабре 1830 года были составлены специальные «Правила отчетности по министерству народного просвещения», статьи которых определяли четкий порядок ведения и подачи отчетов на всех уровнях управления.
Формальные требования к отчетности вполне соответствовали бюрократическому стилю управления николаевского времени. В 1851 году в справке по проверке отчетов директоров училищ было отмечено, что отчеты директоров Вологодских и Архангельских училищ составлены «правильно и совершенно удовлетворительно, переписаны четко и чисто» [1]. А отчет директора Олонецких училищ А. И. Иордана подвергся критике за то, что хоть и «составлен удовлетворительно и переписан чисто и четко», но «сшит белыми нитками, а не шелком, как следовало» [1].
Столичный университет влиял на дела училищ округа не только через систему администрирования, но и непосредственно – через своих выпускников, распределяемых на учительские места. Петербургский Педагогический институт (1804–1819) и университет в первой половине XIX века выполняли миссию «рассадника народных учителей», как и было предусмотрено творцами реформы. Только с 1807 по 1830 год институтом и университетом было выпущено не менее 400 студентов, особенно многочисленными были три выпуска Педагогического института. Никакой другой университет России в то время не осуществлял столь масштабную и последовательную кадровую экспансию в другие округа.
Ежегодно в университете проходило распределение студентов по губернским гимназиям и уездным училищам, поскольку казеннокоштные студенты обязывались подпиской прослужить не менее 6 лет по ведомству Министерства народного просвещения. Список вакансий заранее оглашался студентам, списки выпускников, отправляемых на учительские должности, утверждал попечитель округа. Распределение по «учительским местам» проводила Конференция университета (с 1820 года – образованное вместо нее Правление), распределение на учительские места происходило с согласия студентов, данного в письменной форме.
Занимаясь распределением студентов, университет пытался соблюсти и выгоды студентов, и интересы кадрового обеспечения губернских гимназий. Против желания студента распределение не проводилось, однако мало кто хотел ехать в отдаленные уездные училища Олонецкой губернии. Другое дело – Петрозаводская гимназия, куда еще в 1802 году, окончив Санкт-Петербургскую учительскую семинарию, прибыли М. А. Копосов, Г. К. Ореховский, П. А. Лопатин-ский. Последний был назначен учителем всемирной и естественной истории, географии, французского и немецкого языков, рисования, Г. К. Ореховский преподавал математику, французский и немецкий языки и рисование, М. А. Копосов – математику, физику, архитектуру, французский и немецкий язык, историю и географию.
М. А. Копосов, старший учитель математики и физики, уже в 1804 году исполнял обязанности директора народных училищ, а потом в течение 30 лет был смотрителем училищ Петрозаводского уезда. В общей сложности его педагогический стаж составил 37 лет. В 1808 году после окончания Педагогического института поступают на службу в Олонецкую гимназию Н. О. Куняев, П. С. Соболев, И. Ф. Яконовский, И. Д. Егорьевский, а в Вытегорское уездное училище – И. Д. Протопопов. В этом же году в Архангельск преподавателями в губернскую гимназию были направлены студенты Е. П. Смирнов, К. В. Васильев, А. Баранов, Л. С. Левицкий. В 1809 году
Конференция Педагогического института направила в Олонецкую губернию И. Д. Воскресенского и В. И. Березниковского [8].
Студенты, получившие учительские места в пределах округа, оставались в подчинении университета, это распространялось не только на учебную деятельность. Они должны были испрашивать у Конференции института (позже – Правления университета) разрешения на вступление в брак или на отпуск, через университет они представлялись к награждению и повышению в чине. Правлению же они возвращали из учительского жалования прежние долги или суммы, затраченные на проезд к месту назначения. В Совет университета они представляли свои научные и методические сочинения, в университете защищали диссертации, и тогда их карьера, конечно, круто изменялась. Еще несколько лет бывшие студенты находились «в непосредственном ведении» университета, да и по истечении срока обязательной службы – в постоянном контакте с ним. Раз в несколько лет они встречали приехавшего визитатора – своего же профессора, отчитывались перед ним. В случае их смерти размер пособия, определяемого вдове и детям, также зависел от решения университетского начальства, от того, как оно оценивало способности и заслуги умершего. Пенсионное законодательство, касающееся учителей, в первой половине XIX века еще не оформилось.
Выпускники Петербургского университета, приезжая в Олонецкую губернию, служили весьма достойно, почти все, исчерпав 6-летний срок обязательной службы, оставались служить и дальше. Представления директоров и смотрителей училищ о молодых педагогах изобилуют свидетельствами о «благонравном» поведении. Так, об учителе Н. О. Куняеве директор С. А. Башин-ский в 1818 году писал: «Прилежен и довольно успешен, поведения благородного и отличного» [9]. Такую же характеристику получил и И. Ф. Яко-новский: «…поведения отличного, прилежен, усерден, поведения благородного и нравственного во всех отношениях» [9].
Контроль училищного начальства над учителями затрагивал и их личную жизнь. Учителя испрашивали у директора народных училищ разрешения на женитьбу. В архиве сохранились прошения А. И. Мещерского в 1834 году на второй брак с воспитанницей Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома Настасьей Ивановой. «Я вдов, – писал А. И. Мещерский в прошении, – и со стороны училищной к занятию такого брака препятствий не имею» [2]. В архиве найдено прошение Э. А. Мудрова в 1837 году на брак с дочерью коллежского асессора Василия Аберхалтина Любовью [3].
Приезжая на новое место службы, молодые педагоги вступали в брак достаточно быстро. Чаще всего их женами становились дочери про- винциальных чиновников или учителей. Так, Н. О. Куняев был женат на Е. Реуцкой, из дворянской семьи, П. С. Соболев – на дочери коллежского асессора Ф. Рейнгольда, И. Ф. Яконовский – на дочери губернского секретаря И. Гребенщикова, И. Д. Воскресенский – на дочери титулярного советника П. Безрукова, М. И. Троицкий – на дочери учителя Олонецкой гимназии М. А. Копосо-ва. Все учительские семейства были многочисленны. В семье М. А. Копосова было 10 детей, в семьях Н. В. Талицкого, А. И. Мещерского – семеро, у Н. О. Куняева – четверо. Все мальчики из семей учителей оканчивали Петрозаводское уездное училище, а затем Олонецкую гимназию.
Связи с Петербургским университетом для учительских семей распространялись на второе-третье поколение. Все шесть сыновей М. А. Ко-посова после окончания Олонецкой гимназии продолжили дело отца и стали учителями в учебных заведениях Олонецкой, Архангельской губерний и кроме этого директорами Санкт-Петербургской и Московской гимназий. Николай Копосов окончил Олонецкую гимназию с серебряной медалью и «поступил в Императорскую Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую Академию в число казеннокоштных студентов» [4]. Стали студентами Петербургского университета сыновья Н. Н. Познякова, А. И. Мещерского, М. И. Троицкого.
В последние годы существования Главного народного училища в Петрозаводске и в первые годы после его преобразования в губернскую гимназию оно испытывало кадровые и материальные трудности. Как писал в донесении 1803 года директор, в училище «никаких физических и математических пособий не находится, равно и натурального кабинета. В библиотеке же имеется одно присланное от господина тайного советника… Н. Н. Новосильцева периодическое издание о средствах народного просвещения» (имеется в виду «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения», издававшееся с 1802 года) [6].
Несмотря на сложные условия северного края, слабую заселенность, неразвитость городской жизни, наличие карельского населения, не говорящего по-русски, Олонецкая губерния отнюдь не казалась забытой окраиной, куда не доходил свет образования. Именно здесь раньше других губернских городов возникла гимназия. Как показывают факты, двусторонние связи училищ губернии с Петербургским университетом сложились раньше других и были весьма тесными.
Однако количество начальных училищ в губернии было несколько меньше, чем в соседних Архангельской и Вологодской, до конца 1820-х годов. В следующие десятилетия это отставание только усилилось. По «Ведомости о состоянии учебных заведений по ведомству Департамента народного просвещения» за 1824 год, здесь было
10 учебных заведений с числом учащихся 349 человек, из них 4 девочки. В соседней Архангельской губернии в 9 учебных заведениях училось 340 детей, по Вологодской губернии – в 12 училищах числилось 520 детей [11; 334]. В 1846 году количество школ в Архангельской губернии возросло до 322, учащихся – до 2669. В Олонецкой губернии, по отчету дирекции, значилось 190 школ, число учащихся точно не указывалось. Правда, в Вологодской губернии число училищ в 1846 году было еще меньше – около 100 [10]. По отчету дирекций за 1851 год, Олонецкая губерния стояла на последнем месте в округе по числу учеников в гимназии, которых насчитывается всего 59, тогда как в Архангельской гимназии – 118, в Вологодской – 165 [20; 54–55].
Причины такого положения связаны с тем, что, в отличие от портового Архангельска и купеческой Вологды, более малочисленный Петрозаводск был населен чиновниками горного ведомства и мещанами. Дворянская прослойка в губернии и купеческая в городе были вообще невелики, и в гимназии учились в основном дети чиновников. Во-вторых, в губернии не во всех уездах действовали уездные училища: из 7 уездов таковые действовали только в 4: Петрозаводском, Олонецком, Вытегорском и Каргопольском. В Повенце, Лодейном Поле, Пудоже существовали с 1830-х годов только городские приходские училища. Соответственно, меньше было иногородних детей, способных обучаться в гимназии. В соседних губерниях уездных училищ было больше.
Картина развития школьной сети и успехов просвещения в Олонецкой губернии выглядит довольно противоречиво. По числу сельских училищ Олонецкая губерния превосходила соседей. Это, в частности, объясняется повышенным вниманием, которое уделяло правительство местностям, находящимся под влиянием старообрядчества. С 1836 года после издания специальных «Правил для обучения поселенских, в том числе раскольничьих детей» в Олонецкой губернии сельских школ значительно прибавилось. С 1840 года в ходе реформы государственной деревни ведется интенсивное школьное строительство по линии Министерства государственных иму-ществ. В 1840 году в Олонецкой губернии было 205 сельских школ, где обучалось 1177 учащихся, в 1851-м – 143 школы и 2140 учащихся. Однако двойное подчинение этих училищ мешает выстроить более точную статистику и динамику их роста. Одни и те же школы проходили и по духовному ведомству, и по отчетам Министерства государственных имуществ. Школ, оставшихся в ведении Министерства народного просвещения, в эти годы было сравнительно меньше.
По числу выпускников Олонецкой гимназии, поступивших в Петербургский университет, губерния находилась в особом положении. До 1835 года из Вологодской и Архангельской гимназий в университет не поступал ни один выпускник. Тогда как уже в составе второго выпуска (1810) студентов Педагогического института в Петербурге был А. А. Крылов, сын А. Е. Крылова, впоследствии профессор Санкт-Петербургского университета. В 1824 году университет закончил поэт В. Г. Бенедиктов, ученик И. Ф. Яконовского по Олонецкой гимназии. В Петрозаводске работало больше всего выпускников университета (за всю первую половину XIX века – 31 человек). В Петрозаводске в гимназии одновременно служили 4–5 выпускников, некоторые из них впоследствии перебирались в столицу. В других губернских гимназиях – только по 1–2 человека.
Таким образом, по интенсивности связей с Петербургом, по уровню преподавания в гимназии Олонецкая губерния занимала весьма достойное место в учебном округе. Анализ документов университетского и училищного делопроизводства позволяет сделать заключение о более тесных организационных, социальных и культурных связях Олонецкой губернии с университетским Петербургом в сравнении с другими губерниями округа.
Статья подготовлена при поддержке проекта «Столичный университет в фокусе правительственной политики России (1819–1917)» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009– 2013 годы (Мероприятие 1.2.2), ГК № 14.740.11.1112.
Список литературы Просвещенная провинция: Олонецкая губерния в составе столичного учебного округа в первой трети XIX века
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НА РК). Ф. 335. Оп. 2. Д. 1/1. Л. 22-23.
- НА РК. Ф. 17. Оп. 5. Д. 5/11. Л. 382.
- НА РК. Ф. 17. Оп. 5. Д. 5/13. Л. 33.
- НА РК. Ф. 17. Оп. 5. Д. 4/8. Л. 409.
- Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 20. Д. 125. Л. 3, 7.
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее -ЦГИА СПб). Ф. 139. Оп. 1. Д. 16. Л. 37.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 63. Л. 2.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 398. Л. 2.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 1878. Л. 123.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 5048.
- Журнал министерства народного просвещения. 1825. Кн. 1.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.
- О порядке ревизии отчетов учебных заведений//Сборник постановлений и инструкций по министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 2. Ст. 5, 7.
- Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России Т. 2: Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века. М.: Изд-во МГУ, 2002. 816 с.
- Предварительные правила народного просвещения//Сборник постановлений и инструкций министерства народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. Ст. 14, 16.
- Примерное исчисление сумм на ежегодное содержание университетов, гимназий и уездных училищ в России//Сборник постановлений и инструкций министерства народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. Ст. 33-34.
- Пулькин М. В. Политика русификации в XIX -начале ХХ века (по материалам Архангельской и Олонецкой губерний)//Новая политическая история: Сб. науч. работ. СПб.: Европейский университет, 2004. С.191-206.
- С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819-1919: Материалы по истории С.-Петербургского университета/Под ред. С. В. Рождественского. Пг., 1919. 760 с.
- Синицына П. Т. Развитие народного образования на европейском Севере. Архангельск: Поморский гос. ун-т, 1996. 142 с.
- Сравнительная ведомость о состоянии учебных заведений МНП за 1850 г.//Журнал Министерства народного просвещения. 1851. Ч. 70.
- Устав университетов//Сборник постановлений и инструкций министерства народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. Ст. 296.
- Устав учебных заведений, подведомых университетам//Сборник постановлений и инструкций министерства народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. Ст. 329.
- Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985. 350 с.