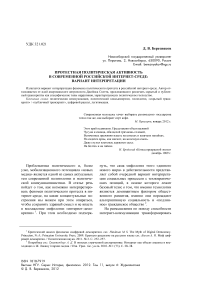Протестная политическая активность в современной российской интернет-среде: вариант интерпретации
Автор: Березняков Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации
Статья в выпуске: 6 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Излагается вариант интерпретации феномена политического протеста в российской интернет-среде. Автор отталкивается от идей американского антрополога Джеймса Скотта, предложившего различать скрытый и публичный транскрипты как специфические типы нарративов, характеризующих политическое господство.
Политическая коммуникация, политический консьюмеризм, господство, "скрытый транскрипт" / "публичный транскрипт", цифровой раскол, легитимация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737860
IDR: 14737860 | УДК: 321.021
Текст научной статьи Протестная политическая активность в современной российской интернет-среде: вариант интерпретации
Современная молодежь хочет выбирать руководство государства точно так же, как выбирает сорт кофе.
М. Прохоров , январь 2012 г.
Этот край недвижим. Представляя объем валовой Чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой, Вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
На болтах и на гайках.
И. Бродский «Конец прекрасной эпохи» декабрь 1969 г.
Проблематика политического и, более узко, мобилизационного потенциала «новых медиа» является одной из самых актуальных тем современной политологии и политической коммуникативистики. В статье речь пойдет о том, как возможно интерпретировать феномен политического протеста в ин-тернет-среде, на какие концептуальные построения мы можем при этом опираться, чтобы сохранить здравый смысл и не впасть в восхваление мифологии «интернет-демо-кратии» 1. При этом необходимо подчерк- нуть, что сама мифология этого «дивного нового мира» в действительности представляет собой очередной вариант интерпретации социальных процессов с технократических позиций, в основе которого лежит базовый тезис о том, что именно технологии являются доминантным фактором общественного развития, именно они порождают альтернативную социальность и «подлинное» гражданское общество 2.
На размышления по поводу способности интернет-коммуникации трансформировать политические институты, безусловно, провоцирует и текущая российская электоральная ситуация 2011–2012 гг., которая, пожалуй, впервые за всю постсоветскую историю дает возможность наглядно наблюдать и анализировать протестную политическую активность именно в интернет-среде. Так, комментируя итоги российских парламентских выборов в декабре 2011 г., отечественный политолог Г. Голосов пишет: «Именно из Интернета люди узнали, что единственный способ что-то изменить на контролируемых властями выборах – это проголосовать за любую из партий, кроме “Единой России”, не обращая внимания на очевидные недостатки этих партий... 4 декабря провал “Единой России” показал, что эта стратегия была правильной. Интернет завоевал доверие граждан, а значит – стал каналом для массовой реакции на итоги выборов. Благодаря блогам и социальным сетям политический протест вышел на улицы российских городов» 3. Онлайн-мобилизация привела к оффлайн-протестам и крайне неуклюжей реакции власти, не привыкшей иметь дело с таким электоратом («бандерлогами», как его окрестил В. Путин, сделав тем самым блестящий PR-подарок своим политическим оппонентам). Даже без социологических опросов и исследований заметно распространение своего рода «интер-нет-оптимизма», генерирующего чувство свободы и возможности политического самовыражения в определенных социальных слоях и возрастных группах российского общества.
Предлагаем свою точку зрения по данной теме, отдавая себе отчет в ее безусловной концептуальной ограниченности.
Политическая коммуникация предполагает активность «доминируемых» 4 акторов. Мир политического с определенной точки зрения можно представить как иерархически организованные коммуникации между тремя акторами: элитами, медиа и населением 5. Если отталкиваться от этой трехзвенной цепочки, то протестная активность – это феномен политической культуры, предполагающий, что аудитории медиа – это не пассивные объекты властно-политической индоктринации, а активные акторы политической коммуникации 6, которые вырабатывают собственные способы интерпретации идеологических нарративов элит и способы сопротивления этому воздействию. Такое сопротивление означает, что доминируемые акторы не только реинтерпретируют нарративы власти, но и вырабатывают собственные.
Специально подчеркнем, что активность доминируемых – это не синоним активности протестующих. Усвоение «языка верхов» и дискурсивных практик власти является для доминируемых ключевым условием их вертикальной социальной и политической мобильности, тем более необходимым, чем экстремальнее и эффективнее работают «лифты», связывающие между собой «верхи» и «низы» (классический пример – ситуации социальных революций). Причем сама активность доминируемых – это константная характеристика отношений господства, принимающая различные формы, в первую очередь в виде практик «конструирования себя» в зависимости от конкретной исторической эпохи 7. В любом ской истории см.: Бодрунова С. С. Современные стратегии британской политической коммуникации. М., 2010.
случае представление о том, что общество можно рассматривать как пассивную атоми-зированную среду, зависимую от манипулятивных технологий медиа, находящихся под контролем элиты, необходимо отбросить.
Важнейшая сфера реализации протестной активности доминируемых – «скрытый транскрипт». Перспективной схемой анализа активности доминируемых может служить концепция власти, предложенная американским антропологом Джеймсом Скоттом в его известной книге «Господство и искусство сопротивления: скрытые транскрипты» 8. Отталкиваясь от идеи отношений власти как асимметричного конфликта акторов, Скотт вводит два понятия: «публичный транскрипт» и «скрытый транскрипт». Эта бинарная пара описывает важнейшие характеристики коммуникации доминирующих и доминируемых. Критически анализируя эту теорию и противопоставляя ей свою трехмерную концепцию власти, С. Льюкс отмечает: суть тезиса Скотта «в том, что жертв господства следует рассматривать как тактических и стратегических акторов, которые притворяются для того, чтобы выжить» [2010. С. 180].
Итак, властные и асимметричные отношения акторов распадаются на два самостоятельных модуса коммуникации. Первый модус – «публичный транскрипт», т. е. то, что происходит на сцене, а не за кулисами господства. Именно тут циркулируют многочисленные ритуалы, направленные на поддержание иерархического «статуса кво», и царит доминирующая в обществе идеология 9. Это своего рода политический спектакль, если пользоваться термином М. Эдельмана 10, или инсценировки, где каждый играет свою роль. Скотт пишет так: «Власть господствующих... обычно добивается – в публичном транскрипте – того, чтобы не иссякал поток изъявлений почтения, уважения, благоговения, восхищения, чествования и даже поклонения, которые еще больше убеждают правящие элиты в том, что их притязания фактически подтверждаются той социальной реальностью, которую они видят своими глазами» [1990. P. 87, 93].
Второй коммуникативный модус – «скрытый транскрипт», когда господа общаются с господами, а подчиненные с подчиненными, т. е. это «политическое закулисье», где все говорят «то, что думают на самом деле». Когда сбрасываешь маски и, сидя в кафе после тяжелых трудовых будней, обсуждаешь своих начальников-недотеп (а они в дискурсе доминируемых, как правило, выступают именно в такой функции), то ты чувствуешь в этой коммуникативной ситуации, что свободен. Нарратив «скрытого транскрипта» всегда насыщен элементами карнавальной субкультуры, это та сфера, где циркулирует «неофициальное» и «смеховое» в бахтинском смысле слова. При этом следует специально подчеркнуть, что существовали и существуют ритуалы легитимного проявления «скрытых транскриптов» – это праздники и карнавалы, когда народ выходит на городские площади и коронует на время альтернативную власть 11. Однако очень важно понимать, что эта бинарная пара, распределяющая коммуникации акторов господства, работает на сохранение самого господства. Ритуализация протеста в данном случае выступает необходимой стабилизирующей технологией, гарантирующей легитимное проявление недовольства, поскольку долгосрочные отношения доминирования с необходимостью предполагают механизмы снятия напряженности при сохранении самой иерархической конструкции.
Ключевой вопрос во всей этой схеме: как подданным стать свободными не в кафе или во время карнавала, а в обществе, которое только при определенных условиях становится гражданским. Карнавал когда-нибудь закончится, из кафе придется уйти, и на следующий день все начнется снова: начальники будут начальниками, а подчиненные подчиненными. Все дружно выпустили пар социального напряжения.
В современной ситуации телевидение – пространство «публичного транскрипта», Интернет – пространство «скрытого транскрипта». Попытаемся спроецировать модель Скотта на современную российскую ситуацию. Ключевая характеристика российской политической культуры – это доминирование телевизионного медиума в формировании легитимной картины происходящих в стране событий. Учитывая развлечение как имманентную тенденцию, свойственную этому типу медиа, «телевизионная политика» стремительно церемониа-лизируется и эксплуатирует формат поли-тейнмента. Это означает эстетизацию восприятия реальности, где визуальное до- минирует над дискурсивным. Гражданин превращается в отстраненного зрителя спектакля власти, который эта власть устраивает «в ящике». Отечественный социолог Б. Дубин пишет по этому поводу: «Российский социум консервируется сегодня как сообщество зрителей, а не развивается как демократия участников. В сознании принадлежности к такого рода “мы” россияне объединены сегодня именно своей социальной и политической пассивностью. Эта пассивность и позволяет власти риторически апеллировать к “большинству”, чтобы вполне практически устранять те или иные “меньшинства” (нежелательные – поскольку неуправляемые – партии, самостоятельные гражданские и профессиональные организации, непослушные медиа, несговорчивых “олигархов”, вообще любые сколько-нибудь независимые инстанции и фигуры). Призывы официальной власти и официозных политиков к национальному единению, его лозунги и символы выступают сегодня в России условием деполитизации социума. Общим языком политического в такой ситуации становится исключительно державное (великодержавное), а ведущим моментом риторики выступают лозунги и символы сплочения “всех” против воображаемого врага и вокруг единой фигуры первого лица» [2005]. Говоря языком Скотта, телевизионные спектакли власти – это актуализация «публичных транскриптов», ориентированных на символическую фабрикацию коллективной идентичности, в своих наиболее патологичных формах рес-сентимента иногда тяготеющую к советизированному спектаклю «всенародного одобрения».
Вместе с тем интерактивные возможности Интернета предоставляют доминируемым такие коммуникативные площадки, где они могут артикулировать свой протест и генерировать группы по сетевому принципу. В политическом плане интернет-среда в ее различных форматах насыщается нарративами «скрытых транскриптов», хотя, безусловно, не только ими. Отсюда все те «ненормативные» аспекты, которые характеризуют обсуждение политики в блогах, социальных сетях и т. д. Обсценная лексика и жаргонизмы – это не проявление бескультурья и плебейства (с этой снобистски-интеллигентской точкой зрения давно пора расстаться), а классическая и универсальная тактика доминируемых, направленная на коммуникативное занижение и фетишизацию статуса доминирующих.
Воздействие «цифрового раскола» поколений на характер политической активности будет возрастать и порождать конфликты легитимации. Следует подчеркнуть, что в долгосрочной перспективе отдельного и пристального внимания заслуживает вопрос о механизмах политической мобилизации аудиторий и генерирования политических институтов через Интернет. То, что это практически плохо работает сейчас, – временное явление, поскольку политический протест и активность в этой среде реализует российская молодежь, составляющая демографическое и социальное меньшинство.
«Цифровой раскол» 12 проходит по поколениям, родившимся во второй половине 1980-х гг. Именно они сейчас вступают в активную жизнь и именно они практически не знают того, что такое советская власть, но при этом прекрасно коммуницируют в Сети. Характер медиапотребления этих поколений не связан с классическими медиа эпохи зрелого Модерна. Новостной контент потребляется и обсуждается ими в Сети. Телевидение для них – это медиум развлечений и зачастую «глумления» над властями, реализуемого в «скрытом транскрипте» через блоги или разговоры на кухне. Кроме того, в условиях посткоммунистической деидеологизации и активного внедрения в политическую практику технологий маркетинга молодые поколения ведут себя как потребители услуг государства и политического рынка. В этом смысле политический консьюмеризм 13 выступает ключевой характеристикой культуры российской молодежи. Иными словами, протест, который реализуется ими в Сети, – это протест потребителей, выросших в относительно стабильные годы путинского правления. Как пишет в этой связи В. Тарасенко, «митинги 2011 года – это не митинги маргиналов. Это митинги недовольных потребителей, чья компетенция и самосознание дошло до понимания того, что государство продает ему некачественную услугу (выборы) по завышенной цене. Государственный менеджмент – это не только менеджмент финансов, налогов и нефти. В первую очередь – это менеджмент прав и обязанностей, возникающих при социальных взаимодействиях. Так вот проблема состоит в том, что инфраструктура и идеология этого менеджмента сейчас, в ХХI в., похожа на инфраструктуру нашего ЖКХ – она изношена и идеологически ориентирована на век двадцатый. И это – наша общая проблема» 14. Очевидно, что консьюмеризм маргинализирует классические идеологические дискурсы. Потребители требуют услуг, а не проектов коллективного будущего 15. При этом речь идет о том, что политика интерпретируется в категориях экономики, точнее, логики покупателя, который, как нам известно, всегда прав 16.
В ситуации, когда «лифты» вертикальной мобильности в обществе блокированы («все занято стариками») или находятся «в долгосрочном ремонте», взрослеющая молодежь будет испытывать и уже испытывает серьезные проблемы с долгосрочным планированием своих биографий, выбором механизмов социализации и карьерного роста. Поэтому, используя терминологию А. Хирш-мана 17, можно говорить о «стратегии ухода» (exit strategy), когда наиболее эмансипированные слои молодежи, проживающие в крупных мегаполисах и получившие приличный образовательный капитал, будут связывать свое будущее не с Россией, а с теми странами, где им в их «политическом воображаемом» будет гораздо комфортнее и перспективнее (неочевидно, что так будет в действительности, поскольку речь идет о планировании, которое часто опирается на мифологию будущего).
В любом случае констелляция целого ряда факторов, воздействующих на характер политической культуры поколений, провоцирует конфликты взаимопонимания. Поэтому традиционные ресурсы легитимации современной российской власти, напрямую завязанные на политические инсценировки, транслируемые подконтрольными ТВ-каналами, не имеют долгосрочной перспективы и потенциала стабильности.
Дубин Б. В. Посторонние: Власть, масса и масс-медиа в сегодняшней России // Отечественные записки. 2005. № 6. URL: http://
Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. М., 2010.
Scott J. C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven; L.: Yale University Press, 1990.
PROTEST POLITICAL ACTIVITY IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN INTERNET:
A VARIANT OF INTERPRETATION