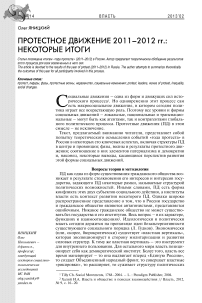Протестное движение 2011–2012 гг.: некоторые итоги
Автор: Яницкий Олег Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена итогам года протеста (2011–2012) в России. Автор предлагает теоретическое обобщение результатов этого процесса для всех вовлеченных в него сил.
Протест, лидеры, фазы, протестные волны, неравенство, социальные изменения
Короткий адрес: https://sciup.org/170166782
IDR: 170166782
Текст научной статьи Протестное движение 2011–2012 гг.: некоторые итоги
С оциальные движения — одна из форм и движущих сил исто -рического процесса1. Но одновременно этот процесс сам есть макросоциальное движение, в котором сегодня поли тика играет все возрастающую роль. Поэтому все уровни и формы социальных движений — локальные, национальные и транснацио нальные — могут быть как агентами, так и контрагентами глобаль ного политического процесса. Протестные движения (ПД) в этом смысле — не исключение.
Текст, предлагаемый вниманию читателя, представляет собой попытку теоретического осмысления событий «года протеста» в России в некоторых его ключевых аспектах, включая структуры ПД в центре и провинции; фазы, волны и результаты протестного дви-жения; соотношение в них элементов патернализма и демократии и, наконец, некоторые выводы, касающиеся перспектив развития этой формы социальных движений.
Вопросы теории и методологии
ЯНИЦКИЙ
Олег
Николаевич – д.филос.н., профессор; заведующий сектором социальноэкологических исследований
ПД есть процесс, имеющий также вну-тренние закономерности развития. Из того, что российское общество расколото на столичный центр и обширную перифе рию, следует, что опросы общественного мнения не являются адекватным инстру ментом изучения эволюции ПД, по скольку они представляют собой не более чем замеры «средней температуры по больнице». Историю и теорию социаль ных изменений надо изучать совсем дру гими методами: необходимо не «дистан-цированное наблюдение», многократно искаженное опосредующими звеньями (структурой анкеты, характером постав ленных вопросов, опросной сетью и т.д.), а все виды включенного наблюдения и непосредственного участия. Появление термина «общественно научные исследо вания» в этой области социологии совсем не случайно.
Далее, хронология как метод изучения протестных движений представляется необходимой, но не достаточной. Здесь необходим культурно исторический подход с его «циклами», «волнами» и «точками бифуркации», учет динамики менталитета. За полтора века мышление как лидеров ПД, так и массы населения сильно архаизировалось, и этот про цесс продолжает развиваться. Пример — нынешняя паника по поводу ожидае мого «конца света», якобы предсказан -ного календарем майя. Реакция на этот возможный всеобщий риск типично архаическая: скупка круп, соли, спичек, горючего. Что касается лидеров ПД, то невозможно сравнить их, например, с А. Герценом или М. Бакуниным ни по уровню образования, ни по уровню тео ретической подготовки, ни по опыту политической деятельности.
Дело не в прошедшем календарном годе, а в том, что раздражение накапливалось постепенно и, наконец, появился повод (но не причина!): недовольство наиболее продвинутой части населения Москвы результатами выборов. Анализ любых социальных движений должен быть кон текстуальным, т.е. опираться на динамику институциональной структуры общества и конкретную расстановку сил2. Даже если после первых митингов протеста «власть и была в панике», как утверждают неко-торые аналитики, это отнюдь не озна чает, что она не обладает ресурсами для нейтрализации или подавления ПД как такового. Элементарное сопоставление группы фланирующих «протестантов» (а именно в такой форме был проведен один из последних «митингов») и всей мощи репрессивного аппарата государства не оставляет камня на камне от концепции рождения «движения морального проте ста». А усиление мощи этого аппарата шло годами, и началось оно практически сразу после перестройки, а отнюдь не год назад. Так или иначе, прошедший год надо оце нивать по его результатам не только для ПД, но и для государства.
«год протеста»: истоки, расстановка сил, динамика, результат
Утверждается, что ПД, развивавшееся в течение осени-весны 2011—2012 гг., было выражением морального протеста, вызванного чувствами раздражения и обмана. Утверждалось также, что те, кто обманывает и врет, незаконны, не леги тимны. Возникает вопрос: а что, в течение всех предыдущих лет люди считали, что им говорят правду? Что все данные им обе -щания 20, 50 и 100 лет назад были испол-нены? И люди не ведали, что по нескольку раз в году данные им обещания не выпол-няются? Значит, произошла аккумуляция раздражения: «мы больше не хотим тер -петь», хотя терпеть можно было и дальше. Разве высокий порог терпения, характер -ный для массы населения, был преодолен? Нет, не для массы, а лишь для ее наиболее продвинутой части! Это был системный протест меньшинства, «вобравший» в себя все, что вызывало недовольство в течение многих лет.
Страна уже давно разделилась на две части (некоторые авторы даже утверждают, что существуют «четыре России»): отно-сительно благополучный центр (столица) и огромная периферия, живущая по прин-ципу: «Не было бы хуже!». Периферию не интересует степень легитимности власти всех уровней. Ее население, а это, по раз -ным подсчетам, 60—70% всего населения страны, озабочено проблемами своего физического существования.
С политэкономической точки зрения Россию можно разделить на четыре типа: 1) крупные индустриальные центры пер вой фазы модернизации, осуществленной во второй половине ХХ в.; 2) моногорода той же эпохи (одно предприятие плюс один поселок городского типа); 3) регио-нальные и местные центры управления и социальных услуг (больницы, школы, городское и муниципальное управление, силовые структуры) и 4) обширная дегра -дирующая периферия (опустевшие малые города, поселки и сельские поселения), население которых выживает за счет госу дарственных пенсий и личных подсобных хозяйств. Все они в большей или меньшей степени «бюджетозависимые».
Это большинство (минус Москва и Санкт-Петербург) — опора власти, т.к. в существующих ныне условиях люди, составляющие это большинство, сами сделать ничего не могут, они — «малоре сурсные» во всех смыслах. На местах нет ни условий (рабочих мест), ни лидеров и организаций, способных выступить в качестве агентов осуществления перемен к лучшему. Есть только властные структуры и криминальные группировки. Отсюда — не «патернализм», а естественное обраще ние этого большинства к властям предер жащим за помощью. Москва — символ власти, которая только и может принять нужные решения. Она — источник ресур сов, нужных периферии, центр, генериру ющий образцы «достойной» жизни и т.д. Социологи просто временами забывают о законе социального сравнения как движу щей силе перемен.
В терминах политэкономии Москва — это средоточие капитализма, а «перифе рия», как полагают некоторые аналитики, — во многом «резервация социализма». Но с той поправкой, что этот «социа лизм» (фактически это «раздаточная эко номика», по О. Бессоновой) на поверку оказывается тем же капитализмом, только в его первоначальных, хищнических фор мах. Так что, на мой взгляд, Россия рас -колота не на капитализм и социализм, а на две его фазы: раннюю (хищническую) и последующую, внешне чуть более циви лизованную. Хотя продолжающиеся кор рупционные скандалы и разоблачения, независимо от их причин и политических целей, свидетельствуют, что российский капитализм практически не изменил своей природы.
Теперь — о самих ПД и его лидерах. Начнем с лидеров столичного ПД и роли «креативного меньшинства». Честность и порядочность этих лидеров — необходи мые, но не достаточные условия. Лидеры ПД должны быть профессионалами своего дела, одинаково хорошо осведомленными как о насущных потребностях населения, так и о репертуаре возможных действий, релевантных сложившейся ситуации. Население России очень прагматично, оно верит только примерам конкретных дел и поэтому выберет своим лидером того, кто покажет на деле, что он способен управ лять лучше, чем другие. Лидер ПД, как и всякого социального движения, не дол жен быть гастролером, какими проявили себя в этот год некоторые деятели лите ратуры и искусства: приехали, выступили на митинге и уехали продолжать свою творческую деятельность. Так называе мое «креативное меньшинство», которое составляло ядро ПД, социально и политически не образованно. Часто кичащиеся своим «западничеством», они не обладают даже элементарными знаниями в области теории протестных и других социальных движений и революций. По публичным выступлениям лидеров ПД было видно, что в своем большинстве они так же плохо знакомы с историей российских обще ственных движений. Удивительно, что за прошедший год это знание так и не вошло в необходимый «пакет» ресурсов лидеров и участников ПД. Тем более удивительно, что это происходит в век господства зна ний и информации.
Утверждения некоторых лидеров ПД о якобы начавшейся именно в этом году «гуманитарной», «нравственной» рево люции не соответствуют действитель ности. Исторически в России «правда» и «справедливость» для всех всегда были ключевыми этическими идеалами, хотя зачастую и были только декларациями. Но в том-то и дело, что в нашем обще -стве потребления, средоточием которого является Москва, ключевыми являются совсем другие, индивидуалистические ценности: личный успех и благополучие при полном безразличии к обществен ному благу. Капитализм фактически уни-чтожил чувство ответственности за страну как моральную категорию.
Прошедший год показал, что новые «креативщики» пока что политически бес плодны. Координационный совет (КС) протестного движения не выработал ни программу, ни алгоритм дальнейших дей ствий. Это еще раз подтверждает мысль о том, что ПД без идеологии, стратегии и тактики, без ответственных и профес сионально подготовленных лидеров не бывает. Любительство здесь исключено. Власть воспользовалась тем, что столич-ная интеллигенция и индивидуалисти чески настроенный «креативный класс» не интересовались тем, что происходит в обширной российской провинции, и сде лала своей социальной опорой именно разоренную, бедную и малообразованную провинцию. Более того, власть посред-ством СМИ представила своим сторонни кам протестующих как источник зла, как силу, дестабилизирующую социальный порядок и, наконец, как «иностранных агентов». Это был стратегический просчет лидеров ПД. Иными словами, за прошед ший год структура его политических воз можностей в результате этих просчетов еще более сузилась.
Для успеха любого ПД, как полагали многие из его аналитиков, нужны следу ющие факторы: 1) доступ к СМИ или же наличие собственного мощного информа ционного канала; 2) Интернет не может заменить повседневную работу с населе нием; 3) всякое ПД должно иметь свой кадровый резерв, в идеале — собствен -ный «теневой кабинет»; 4) этот кадровый резерв должен включать два рода людей: публичных политиков («говорящие головы») и управленцев новой генерации, понимающих значение переговоров и при -нятия решений по принципу governance . Проблема в том, что, как показал опыт большевистской (1917 г.) и «капиталиста-ческой» (1991—1994 гг.) революций, самым разным социальным движениям, как пра вило, не удается создать свой достаточ ный кадровый резерв, и снова приходится набирать на работу бюрократов старого закала. Наконец, одна из самых трудных проблем любого социального движения, коль скоро оно претендует на осуществле ние институциональных изменений, — это механизмы договоренностей и, в конеч ном счете, передачи власти1.
Каковы же уроки для столичного ПД? Прежде всего, структура его политических возможностей сузилась, прогноз некото рых аналитиков о предстоящем «завин чивании гаек» оправдался. Однако неко-торые изменения в институциональной системе все же произошли, но они ско рее ухудшили, чем улучшили ситуацию. Появилась масса мелких конкурирующих между собой партий, из Государственной думы изгнаны наиболее активные «проте станты». Думские партии, принадлежащие к так называемой системной оппозиции, сначала поддерживали «протестантов», но, пройдя в Думу нового созыва, стали оппо нентами протестного движения. Лидеры и участники ПД увидели и почувствовали на себе всю тяжесть мер противодействия властных структур протестному движе нию. Появились политзаключенные, поэтому часть активных участников ПД, сочувствующих и сторонних наблюдате лей (зрителей) отпала. В столичном ПД появились новые члены, но их намерения пока неизвестны. Стало очевидно, что ресурсы данного ПД явно недостаточны для достижения его даже ограниченных целей, а применявшийся репертуар дей-ствий был не адекватен ситуации. Лидеры СД увидели, что власть мобилизует в свою поддержку провинцию, состоящую из пенсионеров, индустриальных и сельско хозяйственных работников, а также сило вых структур (сегодня к ним прибавился корпус «доверенных лиц»), но противо-поставить этой мобилизации ничего не смогли. Социальная среда российской провинции в целом скорее враждебна или, как минимум, нейтральна по отношению к «столичным протестантам». Лидеры ПД не рискнули использовать серию кор рупционных скандалов в высших эшело нах власти в своих целях. Фрустрация и настроения искейпа у части участников движения усилились.
Были и просчеты стратегического харак-тера. Лидеры ПД, сконцентрировавшись на процедуре формирования координа -ционного совета (КС) и вопросах орга-низации конкретных массовых акций (их лозунги, форма и маршруты по Москве, создание «Мастерской протестных дей-ствий»), не поняли, что их первейшая и постоянная задача — это повседневная разъяснительная и пропагандистская работа с населением везде, и прежде всего в российской провинции. Плюс их практи -ческой задачей было создание для рядовых граждан условий, при которых они могли бы обсуждать свои насущные проблемы и свободно высказываться. Пока что в дея тельности КС процедурные вопросы пре обладают над массовым действием; про -грамма и алгоритм дальнейших действий отсутствуют. В конечном счете, КС дол -жен был стремиться завоевать право быть субъектом гражданского общества для переговоров с властью. Время (как время астрономическое, так и темпо ритм кол лективных действий) — не менее важный ресурс оппозиционного движения, чем его институционализация, массовость и един ство действий. Что касается поддержки извне, то протестное движение, особенно после введения новых редакций законов о митингах, НКО, клевете и «иностран-ных агентах», вынесло для себя два урока. Первый: помощь если и получать, то не от иностранных государств, а от единомыш ленников. Второй: если и апеллировать к международному сообществу, то эта апел ляция должна соответствовать интересам большинства населения России (напри-мер, повышение уровня жизни, модерни зация, экология, демократия).
Было ли протестное движение в провинции?
Оно началось задолго до «года протеста» и продолжается и сегодня. В провинции есть спрос на демократию. Люди хотят быть услышанными, хотят объединяться по проблемам и интересам. Но власть этому препятствует и там. Необходимо только учитывать, что геополитически провинциальная Россия очень разная. В ней, по крайней мере, сосуществуют два подтипа: 1) «федеральный каркас», опира-ющийся, прежде всего, на предприятия по добыче и транспортировке углеводородов и структуру ВПК, и 2) региональные полу -автономные политические образования (аналитики называют это «конфедератив ной Россией»).
Контекст «федерального каркаса» можно охарактеризовать следующим образом. Во первых, он отмечен господ ством центра над периферией, все более принимающим форму «внутреннего коло ниализма» и выражающимся в неогра ниченном отъеме природных ресурсов (ренты) и вследствие этого — в полной или почти полной финансовой и другой ресурсной зависимости «мест» и их насе -ления от государства (дотации, субсидии, пенсии). Во - вторых, продолжается демо -дернизация основных фондов и разру шение инфраструктуры, включая ЖКХ. В третьих, для провинции характерна более высокая степень авторитаризма и персональной власти и, соответственно, еще меньшая, чем в столице, власть закона и все большее распространение жизни «по понятиям». Отсюда, в четвертых, мини мальные возможности самоорганизации и самоуправления местного населения. В пятых, продолжается снижение общего культурного уровня местного населения вследствие бегства наиболее продвину той молодежи в крупные города, закрытия средних и специальных учебных заведе ний как «неэффективных» или нерента бельных, замещение местного рабочего и инженерного персонала азиатскими эми грантами с более низким уровнем куль туры. В шестых, в провинции гораздо более развито, чем в столице, чувство нестабильности и зависимости от любого «начальства» или от более ресурсных и хорошо организованных групп иммигрантов. В - седьмых, это преобладание патер -налистского и даже архаического созна-ния, распространение суеверий, высокая конфессиональная зависимость (пример: подготовка населения глубинки к «концу света»). В - восьмых, чем выше зависимость от федерального центра, тем выше его психологическое отторжение, неприязнь, недоверие населения к нему. Наконец, для российской глубинки характерны локаль ные вспышки протеста, включая локаль-ные вооруженные конфликты, которые, в конечном счете, также являются результа-том политики «открытых границ».
Но и в целом под воздействием «года протеста» государственная власть стала еще более закрытой. Произведенные вла-ствующей элитой институциональные изменения незначительны и не связаны непосредственно с движением протеста. Государство резко усилило модерниза-цию и финансирование армии и силовых структур. Отток капиталов, молодежи и высококвалифицированных кадров за рубеж увеличился. Соответственно, уси-лился приток мигрантов из новых сред неазиатских государств бывшего СССР — малообразованных, с другой культурой и конфессиональной принадлежностью.
Общие выводы
Шаг ПД — это не год, а его цикл или волна. Эти циклы и волны детерминиру-ются как своей внутренней динамикой, так и и ее контекстом. Сегодня государство всецело определяет структуру политиче ских возможностей любого ПД. Эти дви жения в столице и на периферии разнятся по своей мотивации, составу и направлен -ности. Ситуация может измениться в двух случаях: если борьба элит достигнет крити -ческой точки и если мировой экономиче ский кризис (или глобальная катастрофа) серьезно подорвут основы существующего социального порядка. Последнее, однако, отнюдь не означает, что структура полити ческих возможностей для демократически ориентированных ПД обязательно расши -рится.
«Год протеста» закончился весьма свое образным, хотя и известным в истории политическим размежеванием. Сегодня диверсифицированное протестное мень шинство (столица) противостоит соци-ально и географически разобщенному, но консолидированному бедностью и бес правием «раздаточному» большинству (периферия), которое опасается любых реформ.
Этот год ясно обозначил возможно сти и ограничения сетевой формы этого движения. Да, мобилизовать людей, собрать деньги для проведения митингов и шествий с помощью сетей было можно. Более того, катастрофические события сплачивают людей ради спасения дру гих людей независимо от их социальной или конфессиональной принадлежности. Но вот вести ежедневную работу с насе лением, со всеми его слоями, убеждать людей в правильности той или иной поли тической программы, вести плодотворную дискуссию с группами интересов посред ством сети было невозможно. Да и дей ствовать им самим без лидеров, которых они видят вживую, а не через экран ком пьютера, тоже оказалось невозможным, хотя никто не отрицает важности сетевых форм информации (сайтов, блогов, фору мов). Да и созданный координацион ный совет более озабочен процедурными вопросами, нежели разработкой стратегии и тактики движения в новых условиях. Тем не менее потенциал интернет протеста далеко не исчерпан1.
Тактически представляется сомни -тельной точка зрения, в соответствии с которой сначала нужно провести «чест ные выборы», а потом решать остальные задачи. Политзаключенных нельзя осво бодить посредством митингов. Сначала надо добиться главного результата — изме-нения отношения власти к ПД и оппози ции в целом. Затем должен появиться кол -лективный гражданский актор (координа ционный совет или др.), с которым власть согласилась бы взаимодействовать. В ходе этого взаимодействия должны быть скон струированы его технологии и алгоритмы. Параллельно должно быть создано обще ственное телевидение (или перепрограм-мировано существующее) с тем, чтобы оно стало площадкой для взаимодействия власти и оппозиции. Свободные СМИ — вещь обоюдоострая, но без них не бывает демократии.