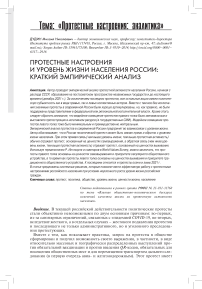Протестные настроения и уровень жизни населения России: краткий эмпирический анализ
Бесплатный доступ
Автор проводит эмпирический анализ протестной активности населения России, начиная с распада СССР, образования на постсоветском пространстве независимых государств и до настоящего времени (декабрь 2021 г.). За исключением последних протестов, все остальные акции имели политическую субъектность как в виде правых, так и левых коллективных акторов. Вместе с тем все без исключения значимые протесты в современной России были хорошо артикулированы, но, как правило, не были поддержаны представителями в федеральной или региональной исполнительной власти. Кроме этого, следует обратить внимание, что медийное освещение протестов правого толка было минимальным и выставляло протестующих в негативном ракурсе (в государственных СМИ). Медийное освещение протестов левого толка тоже было минимальным и преимущественно нейтральным. Эмпирический анализ протестов в современной России предпринят во взаимосвязи с уровнем жизни. Автор обосновывает, что в России политический протест может быть связан прямо и обратно с уровнем жизни населения. При этом прямая связь (чем выше уровень жизни, тем выше протестная активность) обычно отражает протест, основанный на ценностях самовыражения, а обратная связь (чем ниже уровень жизни, тем выше протестная активность) отражает протест, основанный на ценностях выживания. Используя терминологию Р. Инглхарта и соавторов в World Values Survey, можно заключить, что протесты правого толка основаны на ценностях самовыражения и приоритете секулярного общественного устройства, в то время как протесты левого толка основаны на ценностях выживания и приоритете традиционного общественного устройства. К последним относятся и протесты осени и зимы 2021 г. В статье предложены системные решения, которые позволят вести эффективную работу с протестными настроениями российского населения при условии неуклонного роста уровня жизни российских граждан.
Протест, политика, общество, уровень жизни, ценности жизни, население
Короткий адрес: https://sciup.org/170191705
IDR: 170191705 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8764
Текст научной статьи Протестные настроения и уровень жизни населения России: краткий эмпирический анализ
Введение . В текущей российской действительности политические протесты стали объективно невозможными по двум основным причинам: во-первых, из-за санитарных ограничений, связанных с эпидемией COVID -19, во-вторых, вследствие жесткого, а в отдельных случаях – жестокого подавления протестов и последующего не только административного, но и уголовного преследования протестующих.
Вместе с тем, как показывает практика, запрос на протесты в обществе сформирован и получил возможность своего выражения, в частности, в виде относительно массовых и географически распределенных выступлений против обязательной вакцинации и против введения QR-кодов, обязательных для посещения общественных мест и для перемещения транспортом дальнего следования (в первую очередь авиа- и железнодорожным). Этот протест имеет свои организационные особенности, в т.ч. выраженные в социально-демографических характеристиках его участников.
Накопленные к настоящему времени эмпирические данные, теоретические и методологические знания указывают на то, что протесты или протестные настроения могут иметь взаимосвязь с уровнем жизни протестующих в следующем виде.
-
1. Активные политические протесты обычно имеют место в обществах с высоким уровнем жизни. Такие протесты хорошо артикулированы в выдвигаемых требованиях и имеют агрегацию в виде коллективного актора или политического субъекта, являющегося носителем протестных настроений и вариантов решения проблемы, обусловившей протест.
-
2. Пассивные политические протесты, мимикрирующие под социальное недовольство, имеют место в обществах со средним уровнем жизни и ниже среднего. Такие протесты могут не иметь выраженной артикуляции и агрегации, не имеют предложений по решению проблемы, поскольку в них протестующие пытаются защитить свои витальные функции и одновременно косвенно выразить вотум недоверия политической власти наряду со стремлением выразить ей лояльность [Opp 2009; Snow, Vliegenthart, Ketelaars 2018; Greijdanus et al. 2020].
Здесь стоит отметить, что стремительные массовые, но спорадические протесты могут возникать и в обществах с высоким уровнем жизни, и в обществах со средним и низким уровнем жизни. Обычно такие протесты – это ответная чрезмерно бурная социальная реакция на вопиющую политическую или иную несправедливость. В таких протестах есть и политический субъект, и артикуляция требований, и их агрегация политическим субъектом (единичным или коллективным актором) [Snow, Vliegenthart, Ketelaars 2018; Greijdanus et al. 2020].
Протестные настроения в современной России 1 . После распада СССР в декабре 1991 г. (т.е. в текущем 2021 г. этому событию исполнилось 30 лет) первая массовая политическая акция протеста произошла в 1993 г. (3 и 4 октября), когда сторонники президента Бориса Ельцина и защитники Верховного совета собрали в Москве 300 тыс. участников.
Это был первый политический, точнее сказать, конституционный кризис в новой России, который завершился известным расстрелом Белого дома и имел долгосрочные последствия, в т.ч. приведшие к тому, что человек, занимающий президентскую должность в России, имеет более широкие полномочия, чем это необходимо с точки зрения сдержек и противовесов, абсолютно необходимых демократической политической системе.
Принимая во внимание социально-экономическое состояние России после распада СССР, говорить о взаимосвязи уровня жизни с уровнем протестной активности не приходится. Вместе с тем протест был артикулирован и той и другой участвующей стороной: сторонники президента Ельцина выступали за упразднение советской иерархии и структуры политической власти; противники, защищавшие Верховный совет, требовали отставки президента из-за стремительно ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране.
На стороне президента Ельцина выступало правительство России, а также небольшие группы народных депутатов и членов Верховного совета, которые представляли либеральное направление в законодательной власти. На сто- роне противников была сформирована массированная политическая коалиция из представителей законодательной власти (народные депутаты и члены Верховного совета), имевших консервативно-коммунистические, националистические и ультрасоциалистические взгляды. Вероятно, этот политикоконституционный кризис мог бы разрешиться мирно, если бы стороны, во-первых, пошли на взаимные уступки в ходе переговоров (и такая попытка имела место); во-вторых, если бы оппоненты президента Ельцина предпочли не использовать силовой сценарий.
Следующий политический кризис имел уже экономические причины, что вылилось в 116-дневную забастовку шахтеров возле Белого дома в Москве и, в конечном счете, привело к дефолту в августе 1998 г. Шахтерские забастовки были и до этого, но, как правило, ограничивались экономическими требованиями, такими как погашение долгов по оплате труда, включая все положенные шахтерам за тяжелый труд денежные преференции. Но в 1998 г. к экономическим требованиям добавились политические (требование отставки президента Ельцина).
Несмотря на то что протест шахтеров в 1998 г. был четко артикулированным, массовым и, в отличие от более ранних и таких же массовых протестов, агрегированным (наличие политического субъекта в виде отраслевого профсоюзного комитета, он завершился ничем. Во-первых, объявленный дефолт по основным государственным обязательствам экономически обесценил протест. Во-вторых, протестующие не имели медийной поддержки в СМИ и политической поддержки внутри исполнительной власти. Стихийные спорадические акции шахтеров были закономерным результатом критического снижения уровня жизни основной массы населения России на фоне первоначального накопления капитала и приватизации значимых, оставшихся от СССР активов новой экономической элитой.
После 1998–1999 гг. Россия более не сталкивалась с системными политикоэкономическими кризисами. Поэтому наиболее заметной политической акцией в период до 2010 г. стала акция, организованная партией «Яблоко», Союзом правых сил и Союзом журналистов России в защиту свободы слова в марте 2001 г., фоном для которой послужили процессы, приведшие к национализации телеканала НТВ. Общая численность участников акции составляла 10–20 тыс. чел.
Политическая субъектность, артикуляция и агрегация у этого протеста были. Однако долгосрочных последствий акция не имела по следующим причинам:
-
а) сохраняющийся низкий уровень жизни основной массы населения не способствовал какой-либо значимой ценности свободы слова: протест был поддержан только представителями либерально-демократических медийных и политических сообществ, некоторыми группами только начавшего формироваться в России креативного среднего класса;
-
б) протест не был поддержан внутри исполнительного и законодательного российского истеблишмента.
В 2004–2005 гг. прошли акции против монетизации льгот, затронувшие и проявившие протестные настроения наиболее уязвимые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, малоимущие). Но прежде всего следует отметить, что это был не политический, но общественный протест, который, во-первых, был массовым и территориально распределенным – имел широкую протестную географию. Во-вторых, протест, несмотря на общественный характер, имел политическую субъектность, артикуляцию и агрегацию в виде партий левого толка (КПРФ, национал-большевики). Этот протест был напрямую связан с уровнем жизни экономически и социально уязвимых групп населения. Забегая вперед, следует отметить, что протесты 2018 г. против пенсионной реформы имели аналогичные характеристики и также были напрямую связаны с уровнем жизни, точнее сказать, с угрозой витальным функциям уязвимых групп населения.
Возвращаясь к хронологическому описанию, отметим, что следующие значимые политические протесты произошли в 2010 г. (несанкционированная акция на Манежной площади в Москве 11 декабря, поводом для которой послужила гибель болельщика ФК «Спартак» в драке с представителями кавказских сообществ) и в 2011 г. (несанкционированная акция на Чистопрудном бульваре в Москве 5 декабря, поводом для которой послужила фальсификация выборов в Госдуму). Акции, по разным оценкам, собрали от 5–10 до 30–50 тыс. чел. При этом декабрьский протест 2010 г. не имел политической субъектности, не был артикулирован и не был агрегирован, но вызвал сильнейший отклик на фоне националистических настроений, которые и тогда, и сейчас сильны в российском обществе (акции против так называемых кавказцев прошли в других городах России в декабре 2010 г.).
Акцию декабря 2010 г. сложно напрямую ассоциировать с уровнем жизни, поскольку это, вероятно, классический пример стремительного выражения протестных настроений, давно накопившихся в обществе, на фоне вопиющей несправедливости и угрозы витальным функциям людей из-за невозможности получить защиту от государства, обладающего сравнительной монополией на применение насилия в отношении тех лиц, которые представляют объективную или субъективную опасность.
Напротив, акция декабря 2011 г. и последовавшие за ней акции в 2012 г. (по май 2012 г. включительно) можно напрямую ассоциировать с уровнем жизни, поскольку не по всей России, но в мегаполисах и крупнейших городах уже сформировался средний креативный класс, для которого стали значимыми уже потребности иного характера, среди которых права и свободы человека и гражданина находятся на первом месте. Протесты имели политическую субъектность, были хорошо артикулированы и агрегированы, но не получили широкой поддержки. В провинции уровень жизни был существенно ниже, чем в Москве, поэтому там превалировали физиологические потребности, в которые права и свободы человека и гражданина не входят. Кроме того, протестующие не были публично поддержаны внутри исполнительной и законодательной власти, хотя, безусловно, молчаливое одобрение креативной и прогрессивной части истеблишмента было. Протестные настроения носили исключительно политический характер (требование сменяемости власти, пересмотр итогов выборов в Госдуму), поэтому были жестко подавлены.
Вплоть до 2017–2018 гг. протестные настроения не проявлялись в публичном пространстве, что в т.ч. было связано с сохраняющимся эффектом Крымского консенсуса 2014 г. В 2017, 2018, 2019 гг. проходили и согласованные, и несогласованные протестные акции в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных и средних городах, политическим субъектом которых выступала так называемая несистемная оппозиция. Акции были массовыми, преимущественно молодежными, поддержанными регионами, но привычно жестко подавляемыми.
Исключение – вышеупомянутые протесты против пенсионной реформы. Здесь протестный контингент был представлен гражданами среднего и старшего возраста, в т.ч. социально и экономически уязвимыми.
Суммарная артикуляция молодежного протеста 2017–2019 гг. была прежней: сменяемость власти, политическая конкуренция, включая требование борьбы с коррупцией. Решение, которое предлагалось, состояло в допуске несистем- ной оппозиции к выборам на различных уровнях законодательной власти, а также в допуске представителей несистемной оппозиции к принятию решений на различных уровнях исполнительной власти.
В декабре 2020 г. и в январе–феврале 2021 г. протестная активность населения несколько изменила свои социально-демографические характеристики: за весь период новейшей истории консолидировано выступили представители почти всех поколений (в большей степени это была молодежь и люди среднего возраста, в меньшей степени – люди старшего возраста). Уровень жизни к протестам 2020 г. неуклонно снижался (начало этому было положено в 2013– 2014 гг.), при этом стал объективно очевидным запрос на общественно-политические изменения. Протесты были массовыми, территориально распределенными, вместе с тем они были жестко подавлены.
Небольшой всплеск протестной активности имел место в сентябре 2021 г. на фоне результатов выборов в Госдуму, но продолжения не последовало, поскольку сохранялась угроза не только административного, но и уголовного преследования.
Вместе с тем протесты 2020 и 2021 гг. имели свою политическую субъектность, артикуляцию и агрегацию. Но если в конце 2020 г. и начале 2021 г. агрегация протеста была реализована несистемной оппозицией, то в сентябре 2021 г. агрегация протеста перешла к системной оппозиции в виде политических сил левого толка (КПРФ, «Справедливая Россия»).
И точно такая же агрегация протеста левого толка имеет место в акциях, обращениях, пикетах, проводимых противниками обязательной вакцинации и противниками введения QR -кодов в 2021 г. Как уже было упомянуто выше, протесты против обязательной вакцинации и введения QR -кодов имеют свои отличительные особенности:
-
– во-первых, это не политический, но социальный протест, обусловленный распространением обскурантизма в российском обществе;
-
– во-вторых, это протест, выстроенный на самоорганизации, горизонтальных связях через мессенджер WhatsApp ;
-
– в-третьих, протест, имея четкую артикуляцию, не характеризуется достаточной политической субъектностью – политические партии левого толка (КПРФ, «Справедливая Россия»), ортодоксальные и консервативные общественные движения (например, «Сорок сороков») присоединяются к протесту и пытаются агрегировать его результаты постфактум;
-
– в-четвертых, протест имеет поддержку не только в законодательной, но и в исполнительной власти, в т.ч. такая поддержка выражается публично.
Но вместе с тем протестную активность противников вакцинации и противников введения QR -кодов не следует рассматривать континуально, поскольку внутри массива протестующих отсутствует единство мнений. Условно протестующих можно разделить на две большие группы:
-
1) протестующие, находящиеся на либеральных и либертарианских правовых позициях, для которых обязательная вакцинация и введение QR -кодов – это нарушение норм национального и международного права, т.е. прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. ограничение свободы выбора;
-
2) протестующие, которые выражают свое несогласие на основе убеждений, в основном связанных с обскурантизмом, но в эту же группу следует включать и протестующих, которые, напротив, имеют высокий уровень просвещения и не доверяют российской науке и здравоохранению.
Социологических данных о демографии протестов против обязательной вакцинации и введения QR-кодов пока недостаточно, чтобы делать конкретные выводы, но предварительно можно сказать, что протестные настроения формируются женской аудиторией социальных сетей. Основной массив – это женщины в возрасте 40–60 лет: они сделали более 76% всех репостов (выборка составила 362 тыс. сообщений) о недопустимости обязательной вакцинации, введения QR-кодов и о необходимости проведения протестных акций, включая митинги, пикеты, оккупацию общественных мест, запись видеообращений к исполнительной и законодательной власти (преимущественно к президенту В.В. Путину) с конкретными требованиями снять с рассмотрения соответствующие законопроекты и отменить уже введенные санитарные ограничения1.
Обсуждение и заключение . Итак, краткий аналитический экскурс по протестной активности граждан России, начиная с распада СССР на независимые государства и до настоящего времени (декабрь 2021 г.), позволяет говорить о том, что взаимосвязь между уровнем жизни населения и его протестной активностью определенно имеется, но, по всей видимости, это связь неявная, как прямая, так и обратная.
Прямая и обратная связь могут быть выражены в терминах, используемых в составлении Всемирного обзора ценностей ( World Values Survey ), следующим образом [Inglehart 2018; Haerpfer et al. 2020]. Протесты, артикулированные в виде свободы слова, свободы выбора и прав человека, агрегированные правыми политическими субъектами, выступают за ценности самовыражения в секулярно-рациональном общественном устройстве. Такие ценности и такое общественное устройство характерно для стран WEIRD ( western, educated, industrialized, rich, democratic – западные, образованные, индустриализированные, богатые, демократические) [Henrich, Heine, Norenzayan 2010]. Напротив, протесты, артикулированные в виде угрозы витальным функциям уязвимых групп населения, агрегированные левыми политическими субъектами, выступают за ценности выживания в традиционно-консервативном общественном устройстве. Такие ценности и такое общественное устройство характерно для стран восточных и азиатских, менее образованных, с экстенсивной индустриализацией, относительно небогатых, как правило, недемократических либо с имитацией демократии.
Данные последнего Всемирного обзора ценностей указывают на то, что общий фон социальных, экономических и политических настроений в российском обществе тяготеет к традиционализму с доминированием ценностей выживания [Haerpfer et al. 2020]. Это позволяет сделать вывод, что в России протестная активность будет спорадической, немолодежной и обратной уровню жизни. Иными словами, чем выше будет несправедливость, ощущаемая субъективно наиболее уязвимыми группами населения или отдельными гражданами, тем выше вероятность проявления протестных массовых настроений в публичном пространстве с попыткой политического представительства и получения поддержки своих интересов в исполнительной и законодательной власти не только левого, но и правого толка.
Работа с любыми протестными настроениями (основанными как на ценностях выживания, так и на ценностях самовыражения) должна быть рационально организована во всех направлениях:
-
1) в политическом – через кооптацию лидеров правых протестных настроений в систему исполнительной и законодательной власти, с предоставлением всех прав на участие в принятии общественно значимых решений;
-
2) в информационном – через сокращение объемов обскурантной пропа ганды на в сех федеральных каналах и во всех СМИ с государственным уча-
- стием, а также через просветительскую естественнонаучную работу в рамках тех же каналов и СМИ;
-
3) в образовательном – через смещение ракурса образования в естественнонаучную и общественно-гуманитарную сферу;
-
4) в статистическом – через сплошной сбор медицинской статистики и публикация данных о динамике, структуре и других важных параметрах эпидемии и вакцинации;
-
5) в правовом – через запрет на сбор и хранение данных об использовании гражданами в общественных местах QR -кодов;
-
6) в социальном и экономическом – через планомерную реализацию стратегий, ориентированных на повышение уровня жизни населения России.
Список литературы Протестные настроения и уровень жизни населения России: краткий эмпирический анализ
- Гаврилов С.Д., Морозов С.И. 2021. Стратегии коммуникации в публичном политическом пространстве России: от интеграции до протеста. - Право и политика. № 2. C. 25-34.
- Макаренко К.М. 2021. Несанкционированные протесты в современной России: Новая политическая реальность или разовые вызовы системе? -Правовая грамотность как основа развития гражданского общества: сборник статей международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. Уфа: ООО «Аэтерна». C. 20-22.
- Чувашова Н.И. 2013. Политический протест в современной России. - Теория и практика общественного развития. № 6. C. 1-3.
- Easter G.M. 2021. Policing Protest in Russia. - Communist and Post-Communist Studies. Vol. 54. No. 4. P. 74-97.
- Enikolopov R., Makarin A., Petrova M. 2020. Social Media and Protest Participation: Evidence from Russia. - Econometrica. Vol. 88. No. 4. P. 1479-1514.
- Greijdanus H., de Matos Fernandes C.A., Turner-Zwinkels F., Honari A., Roos C.A., Rosenbusch H., Postmes T. 2020. The Psychology of Online Activism and Social Movements: Relations between Online and Offline Collective Action. -Current Opinion in Psychology. No. 35. P. 49-54.
- Haerpfer C. et al. 2020. World Values Survey: Round Seven-Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat.
- Henrich J., Heine S.J., Norenzayan A. 2010. Most People Are Not WEIRD. -Nature. Vol. 466. No 7302. P. 29.
- Inglehart R. 2018. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press. 484 p.
- Opp K.D. 2009. Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis. London: Routledge. 424 p.
- Snow D.A., Vliegenthart R., Ketelaars P. 2018. The Framing Perspective on Social Movements: Its Conceptual Roots and Architecture. - The Wiley BlackwellCompanion to Social Movements. Oxford: Wiley Blackwell. P. 392-410.