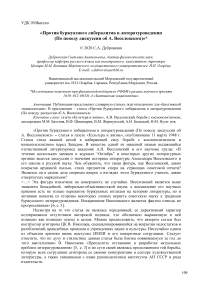Против буржуазного либерализма в литературоведении (по поводу дискуссии об А. Веселовском)
Автор: Дубровская С.А.
Журнал: Бахтинский вестник @bakhtiniada
Рубрика: Материалы к "Бахтинской энциклопедии"
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
Публикация представляет словарную статью, подготовленную для «Бахтинской энциклопедии». В приложении - статья «Против буржуазного либерализма в литературоведении (По поводу дискуссии об А. Веселовском)»
Газета "культура и жизнь", а.н. веселовский, борьба с космополитизмом, диссертация м.м. бахтина, в.ф. шишмарев, в.м. жирмунский, а.и. белецкий, и.м. нусинов
Короткий адрес: https://sciup.org/147248269
IDR: 147248269 | УДК: 030Бахтин
Текст научной статьи Против буржуазного либерализма в литературоведении (по поводу дискуссии об А. Веселовском)
«Против буржуазного либерализма в литературоведении (По поводу дискуссии об А. Веселовском)» – статья в газете «Культура и жизнь», опубликована 11 марта 1948 г. Статья стала важной вехой в набирающей силу борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. В качестве одной из мишеней назван выдающийся отечественный литературовед академик А.Н. Веселовский и его научные труды: «В течение нескольких месяцев в журнале “Октябрьˮ и некоторых других литературных органах ведется дискуссия о значении историка литературы Александра Веселовского и его школы в русской науке. Чем объяснить, что такая фигура, как Веселовский, давно покрытая архивной пылью, стала предметом спора на страницах советской печати? Является ли в самом деле спорным вопрос о взглядах этого буржуазного ученого, давно отвергнутых марксизмом?
<…> Эта фигура извлечена на поверхность не случайно. Веселовский является ныне знаменем безыдейной, либерально-объективистской науки, а восхваление его научных приемов есть не только пережиток буржуазных взглядов на историю литературы, но и активная попытка со стороны некоторых ученых вернуть советскую науку к традиции буржуазного литературоведения. Воскрешение Веселовского является фактом отнюдь не прогрессивным» [6, c. 3].
Несмотря на то что статья не являлась передовицей, ее директивный характер подчеркивался отсутствием авторской подписи, что обозначало выраженную в ней позицию как позицию газеты в целом. Можно предположить, что автором статьи был инструктор агитпропа ЦК В. Николаев, специализировавшийся на вскрытии недостатков и разоблачений, враждебных происков в учреждениях науки и культуры. Неслучайно одним из объектов критики вновь выступил ИМЛИ и его конкретные сотрудники. Следует отметить, что по духу и стилистике данная статья была близка появившемуся за год до того выступлению В. Николаева «Преодолеть отставание в разработке актуальных проблем литературоведения» [5, c. 3] и по сути своей являлась продолжением той борьбы, которую вели сотрудники агитпропа со своими конкурентами в секторе художественной литературы, а также связанными с ними руководителями институтов АН СССР и ряда издательств.
Разоблачению в статье подверглись известные специалисты в области изучения западно-европейских литератур В.Ф. Шишмарев, В.М. Жирмунский, А.И. Белецкий, И.М. Нусинов и др.: «Начало этой кампании было положено сборникам статей, посвященных столетию со дня рождения Веселовского (“Известия Академии наук СССРˮ, отделение общественных наук, № 4, 1938 г.). “Свою научную генеалогию, – сообщает на страницах сборника В.Ф. Шишмарев, – мы ведем в значительной мере от Веселовского, но даже там, где перед нами построения, создавшиеся на иных путях, мы имеем дело с общей устремленностью, сложившейся под влиянием Веселовскогоˮ (стр. 39). Не менее апологетической является также статья В. М. Жирмунского, который сопоставляет работы Веселовского с произведением Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государстваˮ. “Задача советского литературоведения – поднять знамя, выпавшее из рук великого ученого, и продолжить начатую им работу на основе марксистско-ленинского понимания исторического процесса в целом и специфики литературного творчестваˮ (стр. 65). <…> С не менее странными заявлениями выступили авторы “Ученых записокˮ Московского университета (вып. 107) – действительный член Академии наук УССР А.И. Белецкий и А.Н. Соколов» [6, c. 3].
Публикация статьи имела значительные последствия для развития отечественного литературоведения, на долгие годы поставив под запрет компаративистские исследования. Статья обсуждалась на заседаниях кафедр и советах факультетов вузов страны. «После появления в органе ЦК ВКП (б) “Культура и жизньˮ от 11 марта 1948 г. статьи “Против буржуазного либерализма в литературоведенииˮ состоялись заседания, на которых посрамленные профессора, в том числе и Смирнов, признали свои ошибки. <…> Апогеем кампании стала пресловутая “борьба с космополитизмомˮ 1949 года, которая повлекла за собой увольнения, аресты и удушение научной мысли. <…> 11 апреля 1949 г. на заседании в МГУ, посвященном обличению космополитов, специалист по английской литературе В.В. Ивашева “беспощадно доносит на литературоведов Жирмунского, Мокульского и Смирнова, на сотрудника кафедры западной литературы Михальчи и др.ˮ. В Пушкинском Доме в конце года был закрыт Западный отдел и уволены все его сотрудники <…> работа по созданию историй литератур ведущих стран Запада была передана в московский Институт мировой литературы, где она частично и была выполнена в 50–60-е гг. в совсем ином стиле, чем это было задумано В.М. Жирмунским и его единомышленниками» [4, с. 175–176].
Выразительным примером административной реакции на критику газеты может служить письмо главного редактора журнала «Октябрь» Ф.И. Панферова в Агитпроп ЦК (от 23 марта 1948 г. на имя М.А. Суслова) в связи с критикой позиции журнала, на страницах которого были представлены материалы дискуссии о научном наследии А.Н. Веселовского. В письме говорилось: «Я и все члены редколлегии журнала “Октябрь” статью “Против буржуазного либерализма в литературоведении”, опубликованную в “Культура и Жизнь”, признаем целиком и полностью правильной. Наша грубая ошибка заключается в том, что нужно было не дискутировать о Веселовском, а разоблачать буржуазно-либеральное, реакционное существо его концепции. Наша дискуссия явилась вредной шумихой, от начала и до конца ошибочной.
Я прошу Вашего совета, что нам теперь делать? Дать ли в журнале редакционную статью с признанием ошибок и с разоблачением Веселовского или послать письмо в “Культуру и Жизнь”.
Очень прошу Вас помочь мне» [цит. по: 8, с. 170].
После выхода статьи радикально изменились дальнейшие планы научной работы М.М. Бахтина: если после защиты диссертации он планировал приступить к описанию теоретической концепции Веселовского, то в новой идеологической ситуации ученый был вынужден отказаться от этой идеи [2, с. 383]
Отсылки к статье присутствовали и в ходе разбора оппонентами М.М. Бахтина «недостатков» его диссертации во время заседаний экспертного совета ВАКа и самого
ВАКа [1, с. 920–922].
Ист.: Культура и жизнь. 1948. 11 марта. С. 3. Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК / под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. Д.Г. Наджафов, З.С. Белоусова. М.: МФД: Материк, 2005. 768 с.; Каганович Б. Александр Александрович Смирнов. 1883–1962. Изд-во «Европейский Дом». СПб., 2018. 240 с.
-
1. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4(1). М.: Языки славянских культур, 2008. 1120 с.
-
2. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М.: Рус. словари, 1996. 731 с.
-
3. Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1. 592 с.; Т. 2. 704 с.
-
4. Каганович Б. Александр Александрович Смирнов. 1883–1962. СПб.: Европейский Дом, 2018. 240 с.
-
5. Культура и жизнь. 1947. 20 нояб. № 32 (51). С. 3.
-
6. Культура и жизнь. 1948. 11 марта. С. 3
-
7. Лаптун В.И., Юрченко Т.Г., Осовский О.Е. Бахтинский хронограф. 1946–1975 // М.М. Бахтин в Саранске: док., материалы, исслед. Вып. II–III. Саранск, 2006. С. 174–191.
-
8. Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК / под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. Д.Г. Наджафов, З.С. Белоусова. М.: МФД: Материк, 2005. 768 с.
-
9. Паньков Н.А. Вопросы и научного творчества М.М. Бахтина. М.: Изд-во МГУ, 2009. 720 с.
Приложение
Против буржуазного либерализма в литературоведении (По поводу дискуссии об А. Веселовском) // Культура и жизнь. 1948. 11 марта. С. 3
В течение нескольких месяцев в журнале «Октябрь» и некоторых других литературных органах ведется дискуссия о значении историка литературы Александра Веселовского и его школы в русской науке. Чем объяснить, что такая фигура, как Веселовский, давно покрытая архивной пылью, стала предметом спора на страницах советской печати? Является ли в самом деле спорным вопрос о взглядах этого буржуазного ученого, давно отвергнутых марксизмом?
С некоторых пор в изданиях Академии наук СССР, Московского и Ленинградского университетов начали появляться статьи, в которых превозносятся заслуги представителей буржуазной науки о литературе. Главной темой всех этих выступлений является отчетливо выраженный призыв: «Учиться у Веселовского!».
Начало этой кампании было положено сборником статей, посвященных столетию со дня рождения Веселовского («Известия Академии наук СССР», отделение общественных наук, № 4, 1938 г.). «Свою научную генеалогию, – сообщает на страницах сборника В.Ф. Шишмарев, – мы ведем в значительной мере от Веселовского, но даже там, где перед нами построения, создавшиеся на иных путях, мы имеем дело с общей устремленностью, сложившейся под влиянием Веселовского» (стр. 39). Не менее апологетической является также статья В.М. Жирмунского, который сопоставляет работы Веселовского с произведением Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». «Задача советского литературоведения – поднять знамя, выпавшее из рук великого ученого, и продолжить начатую им работу на основе марксистско-ленинского понимания исторического процесса в целом и специфики литературного творчества» (стр. 65). В.А. Десницкий называет Веселовского «гигантом русской научной мысля» и сожалеет о том, что молодые марксисты-литературоведы недостаточно занимаются изучением этого «величайшего из русских ученых-литературоведов». В.А. Десницкий заявляет: «Учиться у него должна и наша грядущая смена» (стр. 84).
Для академика В.Ф. Шишмарева Веселовский является образцом русского человека, подобно героям Отечественной войны («Александр Веселовский и русская литература», стр. 62, изд. Ленинградского университета, 1946). С не менее странными заявлениями выступили авторы «Ученых записок» Московского университета (вып. 107) – действительный член Академии наук УССР А.И. Белецкий и А.Н. Соколов. А. Белецкий превозносит до небес Александра Веселовского и его бездарного брата Алексея, типичного представителя либерального лакейства перед «образованным Западом». Статья А.Н. Соколова является образцом безудержной идеализации Александра Веселовского. Достаточно сказать, что, по утверждению автора, Веселовский сумел отделить диалектику Гегеля от его идеалистической системы. «Научный метод Веселовского не только пропитан материалистическим духом, но приближается к материализму и в своих предпосылках». «Историческая поэтика Веселовского еще недостаточно ассимилирована нашим литературоведением» (стр. 165, 171).
Если верить поклонникам Веселовского, автору «исторической поэтики» малого не хватало, чтобы называться марксистом. Это почти буквально было сказано академиком А.С. Орловым. «Прежние выдающиеся представители сопоставления литератур – Буслаев, Веселовский, Ив. Ник. Жданов сделали очень много наблюдений, но не исчерпали всего, и теперь своевременно продолжать их путь с поправкой на девиацию при помощи марксизма» («Известия Академии наук СССР», отделение литературы и языка, т. VI, вып. 2. 1947 г., стр. 91).
Из этих примеров ясно, что в определенных кругах фигура Веселовского выдвигается как икона и образец для подражания.
Нетрудно понять политический смысл всей кампании, направленной к вящему прославлению Веселовского. Эта фигура извлечена на поверхность не случайно. Веселовский является ныне знаменем безыдейной, либерально-объективистской науки, а восхваление его научных приемов есть не только пережиток буржуазных взглядов на историю литера- туры, но и активная попытка со стороны некоторых ученых вернуть советскую науку к традиции буржуазного литературоведения. Воскрешение Веселовского является фактом отнюдь не прогрессивным,
При рассмотрении вопроса о традиции Веселовского необходимо учитывать еще одно обстоятельство. До второй мировой войны буржуазная реакция в науке о литературе была представлена в первую очередь немецким литературоведением, которое в лице различных своих представителей от Ганса Наумана до Бертрама пришло к открытой поддержке гитлеризма и реакционному мифотворчеству. Разгром фашистской Германии превратил это направление в руины. На первый план выступила другая форма реакции в науке, отвечающая интересам англо-американской лжедемократии. Речь идет о возрождении старой либерально-позитивистской науки со всеми ее чертами абстрактности, безыдейности и культом чистой филологии. Не случайно центром этой реакционной филологии являются в настоящее время США, где выходят такие печатные органы буржуазного литературоведения, как «PMLA», «American journal of philology», «Trivium» и др. Имеющий солидную финансовую базу, новейший космополитизм «литературных отношений» является орудием американского влияния на культурную жизнь других народов.
В этой связи совершенно ясно, что означает вредная шумиха вокруг имени и заслуг Веселовского – типичного представителя либерально-позитивистской науки, отрицавшего самобытность русской культуры, проповедовавшего зависимость ее от культуры Запада.
«Деятельность» школы Веселовского является проявлением того низкопоклонства перед иностранщиной, которое ныне представляет собой один из самых отвратительных пережитков капитализма в сознании некоторых отсталых кругов нашей интеллигенции. Вредность традиций Веселовского ярко раскрывается в «литературоведческих» изысканиях проф. И. Нусинова, автора печально известной книги «Пушкин и мировая литература». В работах И. Нусинова, так же как и у Веселовского, мы видим стремление зачеркнуть самобытное развитие отдельных литератур, ту же тенденцию растворить индивидуальные особенности этих литератур в абстрактных космополитических нормах, свести неисчерпаемое многообразие форм национального литературного развития к небольшому числу международных стандартов - образов, мотивов, сюжетов. Именно от традиций Веселовского идет и формализм Нусинова. Нусинов по сути дела игнорирует идейное содержание художественных произведений, порожденное жизнью, игнорирует зависимость художественного произведения от жизни и связь его с нею. Он оставляет в поле своего внимания только те сюжеты и образы, которые писатель заимствует из литературы. Именно поэтому не образы Онегина, Пугачева, Бориса Годунова, отразившие различные стороны русской жизни и истории, интересуют Нусинова у Пушкина. Не развитие действительности, не борьба классов и ее отражение в литературе составляют для Нусинова основное содержание литературного процесса, а развитие «вековых образов».
Формализм и абстрактно-метафизический подход к литературе, связанные у Нусинова с низкопоклонством перед Западом и умалением русской культуры, равнодушие к конкретной истории, к классовой борьбе, к литературе как отражению жизни, - таковы черты, характерные для книги Нусинова. К позитивисту Веселовскому проф. Нусинов пришел потому, что этот последний внутренне оказался ему ближе, чем марксизм;
Немарксистские взгляды проф. Нусинова не раз осуждались советской общественностью. Однако он упорно продолжает пропагандировать свои ошибочные воззрения. Пример проф. Нусинова наглядно показывает, что Веселовский - символ дореволюционной буржуазной традиции в науке, это мостик к идеологически чуждому берегу.
Тов. А. Фадеев в своем докладе на пленуме правления Союза писателей в июне 1947 г. своевременно поставил вопрос о вредной возне вокруг Веселовского. Совершенно правильным было выступление А. Тарасенкова в журнале «Новый мир» со статьей «Космополиты от литературоведения», в которой разоблачается реакционная сущность концепции Веселовского и его современных эпигонов. Нашлись, однако, литературные «деятели», которые не только не поняли политического смысла этой вредной возни вокруг Веселовского, но и способствовали ее усилению. Журнал «Октябрь» затеял целую дискуссию по этому поводу - ненужную, беспринципную, от начала и до конца ошибочную. Ни один из участников «дискуссии» не сумел достаточно ясно определить политическую сущность этой гальванизации Веселовского. Участники этой вредной дискуссии ведут речь о «недооценке» или «переоценке» концепции Веселовского, спорят о том, что не подлежит никакому спору: был ли Веселовский революционным демократом, приближался ли он к марксизму? Обе стороны воздают дань заслугам Веселовского и спорят в сущности лишь о пределах необходимой «поправки на девиацию при помощи марксизма», в то время как нужно было не дискутировать о Веселовском, а разоблачить буржуазно- либеральное существо его концепции и идеологический вред литературных выступлений с апологетикой реакционных взглядов Веселовского.
Александр Веселовский является буржуазным либералом, ярым противником революционно-демократического направления, направления Белинского и Чернышевского.
Казалось бы, этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы раз навсегда прекратить пустые и праздные разговоры о каких -то положительных итогах научной деятельности Веселовского, о его мнимых заслугах перед русской наукой. Однако участники дискуссии в журнале «Октябрь» и некоторых других литературных органах заняли совершенно неправильную позицию. Примечательна с этой точки зрения статья В. Кирпотина. Характеризуя Веселовского как буржуазного либерала, Кирпотин тут же, словно испугавшись собственной «смелости», поспешно ретируется; он в своей статье «растекается мыслью по древу», пускается в пустопорожние рассуждения «о специальных ученых заслугах» Веселовского, обнаруживает в его «наследстве» нечто такое, что может «действительно сослужить пользу». Буржуазный либерализм был одним из врагов революционно-общественной мысли XIX века. Об этой истине забыл, очевидно,
Кирпотин.
Столь же шатким является выступление Л. Плоткина в «Литературной газете» от 20 сентября 1947 г. В представлении этого автора Веселовский оказывается «фигурой противоречивой». «В своем творческом развитии он испытал воздействие двух факторов, глубоко различных по своему характеру. Это, с одной стороны, передовая русская философия, а с другой – позитивизм и сравнительно-историческая школа, так называемый компаративизм».
Л. Плоткин хочет представить Веселовского выразителем передовой русской философии. Легенда о связи Веселовского с передовой русской философией покоится на одной фразе из его автобиографии: «В университете слушал санскрит у Петрова и курс сравни- тельной грамматики у Леонтьева. Я помню, как я был доволен, когда мне удалось приобрести первое издание Боппа. Присоедините к этому чтения, которыми тогда увлекались в университетских кружках: читали кландестинно Фейербаха, Герцена, впоследствии рвались за Боклем, за которого я и впоследствии долго ломал копья». Нужно иметь большую фантазию для того, чтобы построить на этом теорию о зависимости Веселовского от передовой русской философии. Между тем фраза о Герцене как учителе Веселовского переходит из статьи в статью. Это – легенда, факты говорят иное. Деятельность Веселовского даже буржуазными учеными всегда противопоставлялась традиции Белинского, Чернышевского и других представителей русской революционней критики XIX века. Рисовать Веселовского последователем передовой русской философии – значит извращать историческую правду.
Характеризуя Чернышевского как «последовательного демократа», Ленин отмечал, что «от его сочинений веет духом классовой борьбы». От сочинений Веселовского веет духом кабинетного гелертерства, духом академического объективизма; это типичный представитель той замкнутой в себе «учености», основным признаком которой Добролюбов считал «совершенное отсутствие жизненного начала».
Если в студенческие годы будущий ученый испытал на себе воздействие великих русских мыслителей, а затем предпочел им Штейнталей и Шереров, то подобное «противоречие» вовсе не может служить извинением или аргументом в пользу Веселовского. Деятельность Веселовского была в истории русской общественной мысли одной из ступеней вниз, она олицетворяла собой борьбу либерально-буржуазной науки с передовыми идеями русской демократической публицистики XIX века. Критика Л. Плоткина, так же как и критика Кирпотина, носит половинчатый, двусмысленный характер.
Главный недостаток критики Кирпотина, Глаголева, Плоткина и других состоит в том, что они отделяют Веселовского-ученого от Веселовского-теоретика, представителя определенной системы взглядов, если можно назвать это «системой». Первому воздается по заслугам, второй подвергается осуждению. Это неправильно. Веселовский неприемлем для нас как тип ученого. Только тем, чей кругозор ограничен «маленьким кругом профессиональных интересов» (Ленин), Веселовский может показаться значительной величиной. Смехотворны претензии рассматривать его как теоретика и учителя жизни: слишком очевидна вся мизерность этой фигуры и колоссальная дистанция, отделяющая ее от подлинных представителей действительно передовой национальной традиции. Сын образованного генерала, первый ученик в гимназии, человек, который очень гладко, с исключительной быстротой прошел все официальные ученые степени вплоть до академика и никогда не изменял своей любви к кабинетным занятиям, если не считать сотрудничества в «С.-Петербургских ведомостях», Александр Веселовский является идеалом ученого, который на все «общественные бури» смотрит из тихой гавани «домашнего уюта». Люди этого типа были мало заметны в период расцвета революционно-демократической критики школы Белинского. Когда ее представители жестоко преследовались самодержавием, культурники-академисты выступили на первый план. «Новый ряд исследователей, – пишет А.Н. Пыпин, – набирается в молодом ученом поколении шестидесятых годов, когда совершены были новые многочисленные ученые странствования за границу, и наши молодые специалисты опять получили возможность приобщаться к истопникам западной, особливо немецкой науки. Здесь образовалось, после предварительной подготовки дома, то новое ученое поколение, некоторые представители которого приобрели теперь руководящее значение в исследовании народного предания, литературы и языка» («История русской этнографии», т. 11, стр. 254). К этому «ученому поколению шестидесятых годов» принадлежал и Александр Веселовский.
Все мировоззрение А. Веселовского враждебно нам. Литература теряет у Веселовского свое великое человеческое, общественное значение. Она становится собранием внешних фактов письменности, условным выражением различных ступеней истории, предметом формальной эволюции и культурной техники. В целом Веселовский вполне примыкает к западноевропейской буржуазной социологии и теории культуры. Он полностью расходится с революционно-демократической традицией русской критики XIX века.
Перед советской наукой – огромное поле плодотворной деятельности на благо народа. Марксистско-ленинское мировоззрение дает ей прочный фундамент для научного анализа, для самостоятельного творческого изучения истории русской и мировой литературы. Образцы революционной науки наши ученые черпают из произведений ее корифеев – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Советская историко-литературная наука высоко ценит своих великих предшественников – Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Но поднимать из гроба Веселовского и ему подобных, чтобы делать из них образец для подражания, – значит превращаться в эпигонов отсталых взглядов. Мы в особенности должны беречь сознание наших молодых научных работников от тлетворного влияния Веселовского и его эпигонов, реставраторов буржуазного либерализма в литературоведении.
Дискуссия, прошедшая в журнале «Октябрь», отдельные выступления «Литературной газеты» не принесли ничего, кроме вреда. Защитники Веселовского лишний раз показали, что под сенью юбилейного славословия в честь «гиганта русской науки» скрывается попытка возродить чуждые нам традиции безыдейного и антипатриотического буржуазного литературоведения. «Критики» Веселовского боялись сказать это прямо, они пожелали остаться в рамках «академической объективности». Тем самым они отступили от принципа большевистской партийности в литературе – главного принципа для каждого советского литературоведа.
“Against Bourgeois Liberalism in Literary Criticism (On the Discussion about A. Veselovsky)”
Svetlana A. Dubrovskaya, Doctor in Philology, Professor of the Chair of Russian as a Foreign Language, Deputy Director of the M.M. Bakhtin Center at the Mordovia State University.
N.P. Ogarev National Research Mordovia State University.
Saransk, Republic of Mordovia, Russia
Annotation : The publication presents a dictionary article prepared for the Bakhtin Encyclopedia. The article “Against Bourgeois Liberalism in Literary Criticism (On the Discussion about A. Veselovsky)” is placed in the appendix.
Список литературы Против буржуазного либерализма в литературоведении (по поводу дискуссии об А. Веселовском)
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4(1). М.: Языки славянских культур, 2008. 1120 с. EDN: RRNBMJ
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М.: Рус. словари, 1996. 731 с. EDN: XDVSXL
- Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1. 592 с.; Т. 2. 704 с. EDN: QXGHLV
- Каганович Б. Александр Александрович Смирнов. 1883-1962. СПб.: Европейский Дом, 2018. 240 с. EDN: SOXAQU
- Культура и жизнь. 1947. 20 нояб. № 32 (51). С. 3.
- Культура и жизнь. 1948. 11 марта. С. 3.
- Лаптун В.И., Юрченко Т.Г., Осовский О.Е. Бахтинский хронограф. 1946-1975 // М.М. Бахтин в Саранске: док., материалы, исслед. Вып. II-III. Саранск, 2006. С. 174-191.
- Сталин и космополитизм. 1945-1953. Документы Агитпропа ЦК / под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. Д.Г. Наджафов, З.С. Белоусова. М.: МФД: Материк, 2005. 768 с.
- Паньков Н.А. Вопросы и научного творчества М.М. Бахтина. М.: Изд-во МГУ, 2009. 720 с.