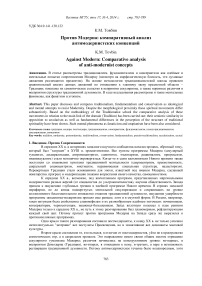Против модерна: компаративный анализ антимодернистских концепций
Автор: Товбин Кирилл Михайлович
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены традиционализм, фундаментализм и консерватизм как идейные и ментальные попытки сопротивления Модерну (несмотря на морфологическую близость, эти духовные движения различаются предметно). На основе методологии традиционалистской школы проведен сравнительный анализ данных движений по отношению к главному звену предметной области - Традиции; показаны их семиотическое сходство в неприятии секуляризма, а также коренные различия в восприятии структуры традиционной духовности. В ходе исследования рассмотрены и такие ментальные феномены, как фанатизм и утопизм.
Традиция, модерн, постмодерн, традиционализм, консерватизм, фундаментализм, псевдотрадиционализм, секуляризация, священное
Короткий адрес: https://sciup.org/14294755
IDR: 14294755
Текст научной статьи Против модерна: компаративный анализ антимодернистских концепций
1. Введение. Против Современности
В середине ХХ в. в воззрениях западного научного сообщества начался процесс, обратный тому, который был "запущен" в XVIII в. просветителями. Все пункты программы Модерна (секулярный гуманизм, десакрализация, антропоцентризм, сциентизм, эгалитаризм, рационализм, прогрессизм, индивидуализм) стали методично опровергаться. Когда-то и сами вдохновители Нового времени также поступили со знаковыми пунктами традиционной ментальности (сакроцентризм, преемственность, сакральный социоцентризм, мистицизм, неравновесная социальная структура, надысторизм). Перевертыши Традиции стали основаниями для эпохи, известной под именем Модерна, сделавшей новаторство, прогресс и модернизацию знаками возрастания своего качества, самоценностями.
К середине ХХ в., возможно, под впечатлением программ, представленных маргинальными модернистами разных версий (от социалистов до ультракапиталистов), научная общественность Запада пришла к ощущению глубинных трещин в идейной программе Нового времени. В странах западной периферии, не до конца подвергнутых ментальной секуляризации и сохранивших на уровне коллективного бессознательного множество отщепов традиционной духовности, ощущение ущербности программы западнизма-модернизма пришло еще раньше, хотя и в смутной форме. В России, например, такая интуиция была свойственна славянофилам и их разнообразным идейным потомкам: почвенникам, консерваторам, черносотенцам, национал-большевикам. Запад вплотную подошел к идее ревизии Модерна только к середине ХХ в., но путь к этому разочарованию был планомерным, рефлектирующим каждый свой шаг. Потому протест против программы Модерна на Западе сразу же выразился в противоположных программах.
Одно крыло такого разочарования составили постмодернисты, к концу ХХ в. не только успешно интеллектуально "затершие" все постулаты Просвещения, но и захватившие все доминанты массовой культуры.
Второе крыло составляли те, кто пытался, в отличие от постмодернистов, уйти не в пространство семиотических игр, а в сакральное прошлое. Это направление имело своим общим местом отрицание секулярного гуманизма Модерна; различия начинались на конструктивном уровне: во-первых, в восприятии Домодерна (Традиции), во-вторых, в отношении к нему, в-третьих, в вере в возможность реставрации традиционной духовности. Потому антимодернистское течение было неоднородным, хотя весьма схожим на формализационном, внешнем уровне (в особенности утрируемом посредством СМИ). Условно это "движение протеста" можно разделить:
– на традиционалистов, считавших Модерн лишь временной поврежденностью ума, никак не вредящей самой Священной Традиции; традиционалисты видели себя в силах восстановить традиционную духовность в традиционных формах. Традиционализм позднее оформился в философско-религиоведческо-культурологическую Традиционалистскую школу (Р. Генон, Ю. Эвола, Т. Буркхардт, А.К. Кумарасвами, Ф. Шуон, Ж. Борелля, Дж. Катсингер, М. Сэджвик и др.), сегодня быстро развивающуюся и претендующую на изменение склада западного менталитета в самой его сердцевине – через восстановление традиционного образа жизни, древней социальной структуры и естественного образа бытия;
– консерваторов, отрицавших в Модерне наиболее воинственные стороны секуляризации (например, десакрализацию), но в целом придерживавшихся прогрессистского мировидения. Консервативный дискурс в политике Запада представлен достаточно наглядно даже для несведущего в политологии обывателя; наиболее яркие его выплески – это фашизм, национал-социализм, перонизм, неонацизм, движение "новых правых" и пр.;
– фундаменталистов, выросших на социальной почве американского протестантизма "Великого пробуждения" и парадоксальным образом вдохновивших фундаменталистские процессы в современном исламе и даже православии.
2. За древнее: традиционализм и фундаментализм
Все эти идейно-ментальные движения сегодня борются за массовое сознание и претендуют на изменение мира в соответствии с механиками, описанными С. Хантингтоном. Но самая большая проблема – в отсутствии внятного анализа этих ментальных систем. Их "внутренние" проповедники, естественно, идейно ангажированы и не замечают параллельных версий антимодернизма. Аналитика "внешняя" упорно грешит считыванием исключительно внешней, феноменальной стороны традиционализма, консерватизма и фундаментализма, пренебрегая (или не в состоянии) провести компаративный анализ. Небрежность в исследовании этих трех антимодернизмов чревата как совершенно туманной футурологией, так и неготовностью к весьма различным социальным и политическим следствиям. Кроме того, феноменологическое уравнивание онтологически различных ментальностей не позволит выработать интеллектуальное противоядие против наиболее маргинальной версии какой-либо из них, подобно тому как в 1930-е гг. западное общество оказалось совершенно деморализовано гитлеризмом, дорогу которому оно само подготовило.
Исходя из поставленной эпистемы, необходимо сравнить традиционализм, консерватизм и фундаментализм как в их негативном параметре (отрицание Модерна), так и в позитивном – вскрыть все точки соприкосновения и ментальные зазоры.
В рамках некой духовной парадигмы, характеризуемой как пост-, контр- и ресекуляризация ( Schultz , 2006), наблюдается процесс возрождения традиционной духовности, однако в весьма специфических форматах. Как правило, на роль реаниматоров духовности претендуют фундаменталисты. Современные консерваторы также повсеместно включают религиозный и традиционный дискурсы в свои политические программы. Таким образом, традиционность фундаменталистского и консервативного изводов стала элементом современной антисекулярной, антимодернистской и антизападной риторики. Данная риторика имеет морфологическое сходство с традиционализмом (и как ментальным настроем, и как философской школой, ассоциирующейся с Р. Геноном), но на деле это явления разного порядка; в вопросе возрождения Традиции типологическая путаница чревата неподготовленностью к серьезным социальным потрясениям.
Различение традиционализма, фундаментализма и консерватизма (как схожих, но различных реакций на Современность ( Ачкасов , 2004)) очень важно для недопущения терминологического и оценочного дисбаланса. Так, различие традиционализма и фундаментализма скрыто уже в названиях этих образов мышления. Традиционализм есть восстановление преемственности изъявления Традиции. Фундаментализм есть воскрешение основ вероучения, отвергающее сложившуюся на этой основе практику как нечто ошибочное и неправильное1. «Фундаментализм – это идеология и практика, ориентированные на радикальное отрицание настоящего во имя восстановления взятого из прошлого "идеального образца" общественного устройства» ( Капустин , 2004). В этом, к примеру, коренное различие православия (как религии традиционной, в идеале) и протестантизма (как религии волюнтаристски истолкованных "истоков").
С другой стороны, в основе традиционализма всегда задекларировано смирение перед Традицией ( Товбин , 2013а), тогда как фундаментализм всегда избирателен в отношении к Традиции (как и в целом протестантизм, в рамках которого родилось понятие фундаментализма)2. Фундаментализм есть следствие активности человеческого ума и воли, отбрасывающих все лишнее, наносное, восстающих против христианства "спящего" ( Костюк , 2002) и обнажающих основы религии. Ш. Айзенштадт подчеркивал доминирование в фундаменталистских идеологиях именно "якобинского", рационалистического элемента, но доведенного до крайности, в отличие от естественно приходящих к доминированию версий "средневолнового" Модерна ( Eisenstadt , 1999). В сравнении со "средним" Модерном, в фундаментализме элементы Нового согласованы дефектно, включают множество проблесков Традиции, неосмысленных или волюнтаристски встроенных в канву. По сей причине это сочетание получается мутантно нежизнеспособным (в долговременной перспективе), и может выжить только через агрессивное отгораживание от "обычного" Модерна. Потому фундаментализм тяготеет к утопичности, и в ракурсе утопии рассматривает свои духовные и социальные идеалы. Главное в фундаментализме – борьба с дефицитом веры, это есть "обратное заколдовывание" мира, самогипноз, с целью осмыслить и ощутить себя подобным предкам . Потому фундаменталисты располагаются в одной плоскости с модернистами ( Гуревич , 1995). Их главное отличие – самоопределение от противного – в эру Постмодерна становится вариацией многоликого "здравого смысла", именно потому Постмодерн – эра гипермодернистов и фундаменталистов ( Gellner , 2003), упорно отстаивающих самые разнообразные комбинации смыслов и ценностей и лишенные какого-либо центростремительного, упорядочивающего начала ( Reclaiming… , 2004).
Утопический фундаментализм – как разновидность современного секуляризма – дал свои ростки и в традиционных духовных движениях. Применимо к православию, примечательна аналитика К. Костюка, отметившего серьезную сущностную трансформацию духовности, переход ее в радикальный и маргинальный формат, являющийся самоценностью ( Костюк , 2002). В этом умонастроении снимается тема модернизма как разрушительного типа мышления, снижается сопротивляемость Современности, образ духовного врага персонифицируется и замыкается в конкретных агентах современности – так возникают столь популярные сегодня конспирологические и алармические теории. В этом случае «модернизм перестает быть актуальным социально-политическим мировоззрением, уходит "на пенсию" идеологий. Если же он сопротивляется, то сегодня это означает уже не былую здоровую агрессивность, но злонамеренную и ядовитую профанацию, негативную фазу пустотного, паразитического постмодерна, лишенного духовных и идейных ресурсов, цепляющегося за внешние рамки своего существования»3.
Фундаменталист, сосредоточившись на семиотических противоречиях с Современностью, старается создать обособленное сообщество, используя ту же отгородительную идентичность, что и традиционалист. Но когда разрушены основания и не видно возможностей к воссозданию Начального – тогда на авансцену Современности выходит иная религиозная новация – фанатизм 4. Некрофилическая окраска современного фанатизма дает заведомо ложный стимул к восприятию бескомпромиссных движений древности как фанатических. Так, в официальной печати именование старообрядцев фанатиками имело место в XVIII-XIX вв. и, отрицая внутреннюю сложность староверия, приводило к заведомо неверному представлению о староверии как протесте против Модерна не своей силой (стоянием в Традиции), но своей некрофилической слабостью, символизируемой "гарями".
В современной философии и модернистском богословии популярно уравнивание фундаментализма и традиционализма как "буквоедства", поклонения перед формами в отрыве от исторических условий, эти формы продиктовавшими (Кураев, 1995). При таком подходе реакция на Современность объясняется как элементарная ментальная трусость. Но ни традиционализм, ни фундаментализм не являются "буквопоклонничеством": традиционализм стремится к восстановлению утраченных условий, а фундаментализму чуждо формопоклонничество, ибо значимость внешних форм для фундаменталиста – показатель духовной слабости. Традиция для фундаменталиста является трудно понимаемым термином, чаще всего сводимым к понятиям "сказка", "басня". Для традиционалиста Традиция – живая связь, "преемственность и служение", возвышающаяся над письменными формами своей фиксации (в особенности – письменными, возникшими вместе с Модерном (Барт, 1989)). Так, Никифор Константинопольский писал: "Мы видим, что даже писаные законы теряют значение вследствие того, что получают силу отличные от них предания и обычаи. Обычай укрепляет, ибо дело сильнее слова. Что такое закон, как не писаный обычай? Равно как и обычай опять же есть неписаный закон" (цит. по: Бычков, 1994).
Итак, традиционализм близок фундаментализму в антимодернизме, но между ними непроходимая онтологическая пропасть в отношении к Традиции. Основная посылка традиционализма – представление о Современности не как закономерном этапе мировой истории, но как "повреждении ума", дефекте, никоим образом не умаляющим Священного, лежащего в основе Традиции. Умаляются лишь способности человека распознать Священное за пеленой повседневности. По этой причине В.В. Аверьянов придает традиционализму такие черты: "…созидание новых форм для древних канонов, через творчество новых вариантов изначального канона без каких-либо компромиссов, без каких-либо уступок тем, кто стремится разрушить канон. Если авторитет канона невозможно восстановить (если современное общество не позволяет этого сделать), то его нужно хранить как образец, но при случае использовать этот образец для созидания новых форм жизни"5.
3. За вчерашнее: консерватизм
У консерватора – иное понимание Традиции, близкое к традиционалистическому. Видя всесогласованность в древности, консерватор наделяет значением саму древность, тогда как для традиционалиста важно не старинное, а вечное, вневременное ( Дугин , 2009). Консерватор восстает против Современности, но оглядывание и – тем паче – рывок Назад для консерватора невозможен или несвоевременен, потому что человек, воспитанный Современностью, не может адекватно восстать против нее ради Возвращения. Это будет не бунт, а видимость бунта, которая окончится установлением виртуальной версии Традиции – версии, родившейся в искаженном уме псевдотрадиционалиста. Потому для консерватора необходимо какое-то время не предпринимать никаких действий, заморозить любые тенденции на начальном этапе, даже если это будут тенденции реставрационные и контрреволюционные.
Титус Буркхардт рассматривал консерватизм как порождение секулярных феноменов государства и культуры, в которых воскрешаются некоторые стабилизирующие элементы Традиции, однако не она сама. Принцип Социального оттесняет Сакральное, и на первое место для консерватора становятся порождения секулярности лишь начального периода: государственность, нация, культура, цивилизация (как правило, ностальгически и романтически окрашенные). Самоценностью Священное не обладает, оно важно только для укрепления вышеперечисленных своих отщепов ( Burckhardt , 1999). Врагом для традиционалистов и консерваторов является условный дух современности , проявляющийся прежде всего в идеологии. Ползучее проникновение прогрессизма и модернизма в сознание традиционных верующих делает самую разрушительную работу, поскольку не противоречит официальной догме и доктрине, за которые привычно цепляется сознание ( Burckhardt , 1987). И подготавливает к этой духовной неразборчивости фундаментализм, ориентирующийся на "букву закона", символизирующую верность устоям. Традиционализм может легко впасть в постмодернизм в пункте разводки Сакрального и Профанного. В Традиции их нет, а посттрадиционный мир не видит между ними разницы; "Священное не ближе к Высшему, чем профанное" ( Тиллих , 1995). Так снимается противопоставление Традиции и Современности, и мы начинаем чувствовать себя в "нормальном" мире, имеющем право на существование ( Бальтазар , 2006); привыкаем воспринимать его "разумные и убедительные эквиваленты" Традиции6, а в вопросе несоответствия традиционному образу поведения всегда делать скидку на "условия времени", впуская Постмодерн в собственную духовную жизнь. Главная проблема традиционализма заключается в стремлении создать образ первозданной освященности всех сторон бытия; можно чисто инструментально связать совершенно не стыкующиеся между собой сферы и в итоге получить нежизнеспособного кентавра 7. Никакого "возрождения" не произойдет, а игра символами древней духовности приведет искателя возрождения в состояние, которое на языке православной аскетики именуется "прелестью" ( Хоружий , 1998).
Традиционализм есть жажда реставрации и – более того – "проектирование должного уклада" (Аверьянов, 2005). Он всегда оперирует не с ценностями, принципами, идеями, а с образом идеальной жизни. По выражению Ф. Шуона, человеческая природа сегодня настолько исказилась, что вовсе перестала быть человеческой, потому для современного сознания язык Традиции не может быть правильным/неправильным – это попросту мертвый язык8. Человек Современности виртуализован, и для того, чтобы привести современное якобы-человеческое существо к метафизическим перспективам существования, необходимо предварительно проделать серьезнейшую работу по восстановлению традиционного мышления. Без этой работы возрождения Традиции не состоится – осуществится лишь очередная игра этикетками. Собственно, в этой работе по восстановлению "царя в голове" и заключается традиционализм.
Для истинного традиционализма заветной целью является восстановление утраченного или замутненного богообщения. Традиция не есть комплекс мер, символов, обрядов. Сами по себе, не наполненные Сакральным, эти формы – пустышки. Потому основной вопрос, который задают себе традиционалисты, но не задают фундаменталисты и консерваторы: "Наполнит ли забытое нами Сакральное восстановленные нами сосуды?" ( Эвола , 2005). В.В. Аверьянов пишет: "Если традиция перестает соответствовать своему подлинному происхождению, то она перестает быть традицией, становится некоей более или менее устойчивой тенденцией разрушения, а не формой созидательной преемственности"9.
Таким образом, традиционализм, не имеющей связи со Священным как основой Традиции (в силу объективных факторов или субъективной патологической неспособности современного человека), может стать самым эффективным средством уничтожения традиционности как типа мышления. Современный человек, оторванный от естественных условий бытия и перемещенный в киберпространство, вполне готов к ретро-постмодернизму – переходу от Модерна в имитацию Традиции внешней стилизацией. Это и есть десакрализация в своем пределе.
Тема традиционности в наши дни особо актуальна, несмотря на трехсотлетнее угнетение идеологией Просвещения. Тяга к Традиции актуальна не только в постколониальном мире, сегодня активно заявляющем о своей самобытности и даже намеревающемся придать свои черты прочему человечеству. Даже в западном обществе поиск Традиции оформился в серьезное философско-религиоведческое движение, позже ставшее известным под именем Традиционалистской школы. Традиционалисты использовали понятие Традиции как вневременной и надындивидуальной сферы самовыражения Священного в противовес "традиции" как сложившейся цивилизационной или этнической инерции. Таким образом, Традиция должна обладать некоторыми сущностными чертами, обнаруживаемыми у разных народов при изучении структур Сакрального. Эти структуры неотъемлемы как от особенности психики и мышления, так и от самой природы Социального, потому эпоха Модерна, стремившаяся к изживанию Традиции, планомерно сооружала антиподы традиционным способам изъявления Священного. Так сформировалась "антитрадиция" Просвещения, выражавшаяся в использовании перевернутых традиционных структур повседневности, наполняемых собственным, гуманистическим, содержанием. Так происходил перевод Традиции на уровень идеологии или религии как идеологии, в которых место Священного замещено абстракциями Человека или Общества.
4. Заключение
На изломе Модерна его антитрадиционная программа начала отступать под натиском новой программы – Постмодерна. Постмодерн есть отход от Модерна, но без ожидаемого возврата в Домодерн, на отрицании которого строилось Новое время. Сегодня Традиция столкнулась с небывалым вызовом – она призывается из забвения миром, отвергающим модернистские миражи, однако такой мир, неспособный к восприятию вертикального измерения Традиции, интересуется только горизонтальной плоскостью, дарующей индивиду ощущение принадлежности к исконным инстанциям Духа, Крови и Почвы. Все элементы Традиции, гальванизируемые современными искателями духовности, попадают в пространство пострелигии, использующей для имитации духовности такие методы, как деконструкция, расщепление, дистанцирование, коллажирование, виртуализация, мимикрия, дабы создать видимость традиционной сочлененности Священного и повседневности (Товбин, 2013b). Это плоскостное псевдотрадиционное пространство успешно схватывает истинно традиционалистические импульсы сознания, вырвавшегося из идеологических пут Нового времени, и переправляет в стили, бренды и лейблы, которые, в свою очередь, являются цепкими ловушками для современного виртуализованного сознания и не позволяют ему в поисках Традиции двигаться дальше имитационной и мозаичной поверхности. Высочайшая степень постмодернистской десакрализации обусловлена тем, что пострелигия не возвращает в Традицию ментальные структуры, эксплуатировавшиеся Модерном. Эти структуры уничтожаются, примитивизируются в игру, вытесняются на периферию произвольной избирательности, выхолащиваются в симулякры, не препятствующие формированию новейшего типа духовности – виртуально-эгоцентрической, преодолевшей абстрактный антропоцентризм Модерна без возврата к конкретному сакроцентризму Традиции.
Как реакция на постсекуляризацию рождаются такие позднемодернистские мировоззренческо-религиозные движения, как консерватизм и фундаментализм. Они изыскивают в современности некие бифуркационные точки и устремляются к тем из них, которые кажутся возможностями для кристаллизации сопротивляемости религиозных систем секулярному процессу. Эти движения во многом близки традиционализму, но противоположны по сущности, так как апеллируют не к сакроцентризму древности, а к религиозному антропоцентризму, хотя и чрезвычайно возвышенному над стохастичной Современностью. Несмотря на свою риторику и этическую близость с традиционализмом, фундаментализм и консерватизм не являются контрсекулярными проектами, имеющими целью восстановление позиций Священного в этом мире.