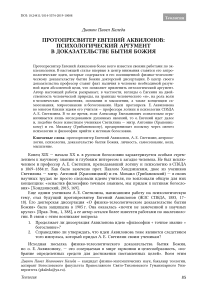Протопресвитер Евгений Аквилонов: психологический аргумент в доказательстве бытия Божия
Автор: Каледа Павел Иоаннович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (84), 2019 года.
Бесплатный доступ
Протопресвитер Евгений Аквилонов более всего известен своими работами по экклезиологии. В настоящей статье впервые в центр внимания ставятся его антропологические идеи, которые содержатся в его посвященной физико-телеологическому доказательству бытия Божия докторской диссертации. В центр своего доказательства профессор ставит факт наличия в человеке необходимой разумной идеи абсолютной цели, что позволяет применить онтологический аргумент. Автор настоящей работы раскрывает, в частности, взгляды о. Евгения на двойственность человеческой природы, на границы человеческого «я», на роль воли в человеческих отношениях, познании и мышлении, а также концепции самосознания, миросознания и богосознания. Идеи протопресв. Е. Аквилонова во многом близки идеям его учителя - профессора логики и психологии СПбДА А. Е. Светилина. В то же время, если Александр Емельянович сознательно ограничивается лишь исследованием душевных явлений, то о. Евгений идет далее и, подобно более известным ученикам Светилина - митр. Антонию (Храповицкому) и еп. Михаилу (Грибановскому), предпринимает попытку через синтез психологии и философии прийти к истинам богословия
Протопресвитер евгений аквилонов, а. е. светилин, антропология, психология, доказательство бытия божия, личность, самосознание, воля, мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/140246681
IDR: 140246681 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10008
Текст научной статьи Протопресвитер Евгений Аквилонов: психологический аргумент в доказательстве бытия Божия
Конец XIX — начало XX в. в русском богословии характеризуется особым стремлением к научному знанию и глубоким интересом к загадке человека. Не был исключением и профессор А. Е. Светилин, преподававший логику и психологию в СПбДА в 1869–1884 гг. Как было замечено прот. Павлом Хондзинским, двое из учеников Светилина — митр. Антоний (Храповицкий) и еп. Михаил (Грибановский) — в своих научных трудах не просто следовали идеям учителя, но воплощали общую для них концепцию: «оснастив философию точным знанием, мы придем к истинам богословия» [Хондзинский, 2015, 169].
Еще одним учеником А. Е. Светилина, написавшим работу на психологическую тему, стал будущий протопресвитер Евгений Аквилонов (ЖЗС СПбДА, 1883, 17– 18). Его докторская диссертация «О физико-телеологическом доказательстве бытия Божия» была защищена в 1905 г. Она оказалась «почти не замеченной в научных кругах» [Прав. Энц., 1, 388], а ее автор остался более известен работами по экклезиоло-гии. В связи с этим возникают вопросы:
-
1. Продолжает ли диссертация Аквилонова идею «философия + точное знание = богословие»?
-
2. Справедливо ли утверждать, что идеи Аквилонова тоже являются следствием того импульса, который придал А. Е. Светилин своим ученикам?
Исходная посылка физико-телеологического доказательства бытия Божия, по о. Е. Аквилонову, — это созерцаемая в мире гармония и целесообразность, «из брание определенных средств для дост ижения поставленных целей». Всем этим
«бесспорно свидетельствуется разум», причем «в соответствии с величием осуществленного плана, мы должны производящей причиной его предполагать такое Существо, которому принадлежат бесконечный разум и такое же всемогущество» (Аквилонов, 1905, 38).
Это доказательство имеет особенность: его аргументы «обращаются не только к одному… разуму, но также и к человеческому сердцу», и потому обладает «необыкновенной чувствительностью к различным состояниям человеческой души» (Аквилонов, 1905, 3–4). Когда на сердце человека легко, все ему кажется гармоничным и целесообразным; когда ему тяжело, он ощущает дисгармонию и бессмысленность бытия. Возникает необходимость «удостоверить нахождение целесообразности во внешнем мире» (Аквилонов, 1905, 60) — именно этому и посвящена основная часть работы о. Евгения.
Гармония мира может служить поводом для мысли о Боге как Первопричине мирового порядка, но все-таки мир проявляет целесообразность «в далеко не достаточной степени» для утверждения о существовании Бога как Устроителя этой целесообразности (Аквилонов, 1905, 395). Тем не менее, физико-телеологический аргумент приводит человеческий разум к необходимой разумной идее «абсолютной цели, совершенной гармонии и красоты» (Аквилонов, 1905, 396). Далее можно применить онтологический аргумент: если имеется необходимая разумная идея об абсолютной цели, значит, эта абсолютная цель существует, а поскольку возможно лишь единое Абсолютное, она и есть Бог (Аквилонов, 1905, 434).
Чтобы «удостоверить» целесообразность и гармонию устройства мира, прот. Евгений разбирает различные аргументы за и против телеологии, пользуясь данными науки. Более всего Аквилонову приходится полемизировать с идеями материализма и пессимизма, что и не удивительно. Рассмотрим основные идеи о человеке, которые высказывает богослов на страницах своей работы.
В своей полемике прот. Евгений более всего использует учение о человеческом духе, сознании и самосознании, личности и воле.
Для Аквилонова человек — это «не материя, а дух»1, который ассоциируется с разумом, свободной волей и личностью, который пользуется своим телом как орудием и заключен в него, словно в хижину (Аквилонов, 1905, 141–142)2. Так же и сознание человека не порождается мозгом, но, напротив, само пользуется им как орудием (Аквилонов, 1905, 139).
Прот. Евгений строит оригинальную концепцию самосознания, миросознания и богосознания (Аквилонов, 1905, 186–189). Миросознание оперирует представлениями из области видимого мира; богосознание — представлениями религиозными и нравственными. Миросознание получает свое содержание из внешних чувств, а богосознание имеет свой собственный орган — разум. Самосознание «находится между» миросознанием и богосознанием и «усвояет себе каждое из них» (Аквилонов, 1905, 189). Таким образом, идея Бога возникает у человека через происходящий из невидимого мира опыт, который усваивается богосознанием. Добавим также, что слова «сознание» и «дух» Аквилонов использует синонимично, например: «сознание… свидетельствует… что наша реальная личность представляет собой духовную сущность», и через несколько предложений: «наш дух свидетельствует нам о том, что мы — духи, заключенные в земную хижину» (Аквилонов, 1905, 142).
Человек имеет двойственную природу. Для себялюбца границы его «я» находятся «на поверхности его собственного тела». Для евангельского милосердного самаря-нина страдания впадшего в разбойники «стали его личными страданиями», его «я» расширилось до этого несчастного человека. От христианина требуется, чтобы его «я»
«распространилось в сердца… собратий и, если возможно, даже до границ всечелове-чества» (Аквилонов, 1905, 248). Человек, любовь которого достигает его ближних, который «их радости и горе чувствует как бы своими», этой любовью «утверждает себя самого и пригвождает ко кресту другого, в нем находящегося, человека» (Аквилонов, 1905, 250). Таким образом, человек имеет двойственную природу: его добродетели сообразны «лучшей» природе, а его пороки — «худшей».
Личность является «основой сущности» человека (Аквилонов, 1905, 174) и обусловливается «взаимодействием душевных сил» (Аквилонов, 1905, 170) — т. е. разумом, чувством и волей (Аквилонов, 1901, 61). Ее нельзя возвести к родителям или окружающей обстановке, она «божественная по своему происхождению и возникает непосредственно из глубочайших источников жизни», в ней «обитает свобода» (Аквилонов, 1905, 175).
Воля, по Аквилонову, играет важную роль и в мышлении: «при отсутствии определенной воли, или намерения» мысль «оказывается не действительною, а только кажущейся мыслью»; для «действительной» мысли необходимо «служить некоторой положительной цели» (Аквилонов, 1905, 167). Таким образом, понятие цели необходимо содержится в человеческом сознании.
Когда мы видим некое образование природы, которое «обнаруживает целевую форму», фактически мы говорим, что причиной его может быть определенное намерение. И хотя «утверждение или отрицание цели целеполагающего разума является одинаково ошибочным, одинаково абстрактным, одинаково априорным», не подлежит сомнению реальность самого «чистого мышления о цели», а психологическая реальность целевого мышления сама по себе является целесообразным фактом (Аквилонов, 1905, 363–365). Другими словами, «психологическая» телеология оказывается более достоверной, чем внешняя.
Итак, по представлениям прот. Евгения, человек — это не тело, но дух. Основой сущности человека является его личность, которая обладает свободой, не наследуется от родителей и является самостоятельным началом, Божественным по происхождению.
Человеческий дух имеет миросознание и богосознание, а также самосознание, которое через первые два усваивает человеку опыт, происходящий из мира видимого и мира невидимого. Слово «сознание» Аквилонов использует синонимично слову «дух».
Человек имеет двойственную природу. Его «худшее» «я» ограничено телом. «Лучшее» «я» настоящего христианина включает в себя его ближних вплоть до всего человечества.
Человеческая воля является ключевой в общении личностей и, кроме того, необходима для мышления. Непосредственно связанная с волей идея цели необходимо присутствует в человеческом сознании, а реальность целевого мышления является целесообразным фактом.
Стоит отметить переход к метафизике, который прот. Евгений делает в заключительных главах работы. А именно, идея порядка, меры, целесообразности и красоты мира (показанная в основной части работы), будучи усвоенной разумом, становится для него необходимой идеей. Но мир выражает ее лишь в несовершенной мере, поэтому мысль достигает покоя только в идее «абсолютной цели, совершенной гармонии и красоты» (Аквилонов, 1905, 396). Эта идея оказывается необходимой разумной идеей, включающей в себя идею об объективном бытии. Значит, эта цель действительно существует и, поскольку существует лишь единое Абсолютное, является Богом (Аквилонов, 1905, 434). Таким образом, метафизика (онтологический аргумент) завершает доказательство, построенное на данных естественных наук и психологии.
Итак, в целом рассуждение Аквилонова можно разделить на три этапа. Первый этап — это обоснование (но не абсолютно строгое доказательство!) целесообразности устройства мира и человека. Без ущерба общему рассуждению здесь можно опустить все психологические рассуждения. Второй этап — это чисто психологическое доказательство наличия в сознании человека идеи цели. Наконец, третий этап — доказательство существования необходимой разумной идеи Абсолютной цели, включающей в себя идею об объективном бытии, и сведение дальнейшего доказательства к метафизике (онтологическому доказательству).
Рассмотрим антропологические взгляды А. Е. Светилина и сопоставим их со взглядами прот. Евгения Аквилонова. Как уже было отмечено, Евгений Аквилонов слушал лекции А. Е. Светилина по логике и психологии. Ознакомиться с их содержанием можно по неизданным лекциям по психологии (Светилин, 1883) и по учебнику логики (Светилин, 1880), который выдержал 14 изданий и оставался основным учебником по этой дисциплине до самой революции.
Александр Емельянович ограничивает интерес психологии лишь душевными явлениями (Светилин, 1883, 72), оставляя метафизике вопросы типа «что такое душа как субстанциональная основа душевных явлений», «как объяснить разнообразие душевных явлений при субстанциональном единстве и простоте духа» и т. п. (Свети-лин, 1883, 4–5). Кстати, здесь Светилин пользуется словами «дух» и «душа» как синонимами — как делал и его ученик.
Профессор разделяет ощущение как объективный факт душевной жизни от восприятия как придания качества ощущения соответствующему внешнему предмету (Светилин, 1880, 3), которое подлежит критической оценке. Душевные явления обладают тремя существенными особенностями: непротяженность (они не занимают пространство (Светилин, 1883, 6)), непосредственность (исчезает «различие субъективного и объективного» (Светилин, 1883, 8)), cвобода (наши мысли, желания и чувствования существуют в том числе потому, что их «допускает наша воля» (Светилин, 1883, 8–9)). Cама возможность свободной деятельности «может иметь место только в области духа» (Светилин, 1883, 9). Как мы видели выше, Аквилонов свободу ассоциировал с личностью, т. е. тоже относил ее к области духа.
Признавая существование разных определений термина «сознание», А. Е. Све-тилин понимает под ним «внутреннее чувство» (Светилин, 1883, 153). При этом «состояние духа и сознание этого состояния относятся друг ко другу… как две стороны одного и того же реального факта, отличаемые только психологическим анализом» (Светилин, 1883, 4). Сознание в человеке «развивается» до самосознания, «когда готовы представления и о внешних предметах, и о нашем „я“» (Светилин, 1883, 325). Таким образом, если в отношении понятия «сознание» учитель и ученик занимают очень близкую позицию, то с понятием «самосознание» ситуация иная. Аквилонов понимает под ним то, что посредством миросознания и богосознания усваивает субъекту происходящий из видимого и невидимого мира опыт.
Воля, по Светилину, отличается от желания различением «нашего „я“ от своих состояний — чувств, желаний, стремлений», и потому она «принадлежит только тому, кто обладает самосознанием» (Светилин, 1883, 606). Воля способна «давать совершенно новое направление душевной жизни, для которого нет достаточных причин в предыдущих состояниях духа» (Светилин, 1883, 20–21). Воля может бороться со стремлениями и желаниями и ограничивать их (Светилин, 1883, 605). Она способна определять направление внимания (Светилин, 1883, 204), контролировать ход представлений и делать между ними выбор, на чем основывается активное творчество (Светилин, 1883, 515, 533). Воля оказывается необходимой и для самого мышления, поскольку «акт мышления есть непременно акт творчества» (Светилин, 1883, 532). Таким образом, воля оказывается первичной по отношению к мышлению. Особую важность этой идеи для богословской науки высказывал уже упоминавшийся иером. Антоний (Храповицкий)3. Как мы видели, Аквилонов тоже считал волю необходимой для мышления.
Стоит также отметить идею постепенного развития представления о нашей личности, которую А. Е. Светилин высказал в своих лекциях (Светилин, 1883, 415–425). Речь идет о том, что человеческое представление о личности постепенно развивается, начиная с представления о себе как своем теле. С этой идеей, развитой затем Гриба-новским4, отчетливо перекликается идея Аквилонова касательно расширения нашего «я» «даже до границ всечеловечества». И хотя прот. Евгений ведет рассуждение под совершенно иным углом зрения и в рамках своей специфической полемической задачи, сложно представить, что на такой ход мысли совсем не повлияли идеи его учителя.
Теперь мы можем дать ответы на поставленные в начале статьи вопросы. Как мы видели, концепция богосознания является попыткой прот. Е. Аквилонова психологически объяснить метафизический вопрос о происходящем из невидимого мира опыте, а само предложенное им доказательство бытия Божия является синтезом философского (онтологического) и научного (психологического) рассуждения. Таким образом, идея «философия + точное знание = богословие» вполне прослеживается в его работе.
Наконец, близость идей о. Е. Аквилонова с идеями А. Е. Светилина, особенно в ключевом для доказательства понятии воли, дает основание считать диссертацию будущего протопресвитера отголоском того импульса, который придал своим ученикам этот забытый многими профессор логики и психологии.
Список литературы Протопресвитер Евгений Аквилонов: психологический аргумент в доказательстве бытия Божия
- Аквилонов Е. П., свящ. О Божестве Господа нашего Иисуса Христа и о средствах нашего спасения. СПб., 1901.
- Аквилонов Е. П., прот. О физико-телеологическом доказательстве бытия Божия. СПб., 1905.
- Распределение предметов преподавания в I, II, и III курсах СПбДА по трем ея отделениям на 1882-3 учебный год // Журналы заседаний совета С.-Петербургской духовной академии за 1882/3 год. СПб., 1883.
- Светилин А. Учебник логики. Изд. 5-е. СПб., 1880.
- [Светилин, А.] Лекции по психологии, читанные студентам Санкт-Петербургской духовной академии в 1882-1883 учебных годах профессором А. Е. Светилиным: копия с литографического материала, собственность П. П. Курицына, преподавателя Подольской духовной семинарии.
- Михаил (Грибановский), еп. Веяние Духа Божия. Письма. Статьи. Речи. СПб.: Воскресение, 2011.
- Аквилонов // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 387-388.
- Хондзинский П., прот. Синтез опытной психологии и метафизики в духовно-академической науке второй половины XIX столетия: А. Е. Светилин и его ученики // Государство, религия церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33).
- Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. М.: ПСТГУ, 2007.