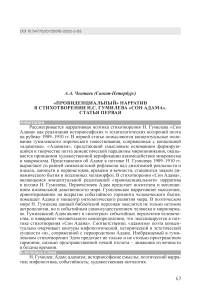«Провиденциальный» нарратив в стихотворении Н.С. Гумилева «Сон Адама». Статья первая
Автор: А.А. Чевтаев
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается нарративная поэтика стихотворения Н. Гумилева «Сон Адама» как реализация историософских и эсхатологических воззрений поэта на рубеже 1909–1910 гг. В первой статье осмысляются концептуальные основания гумилевского лирического повествования, сопряженные с концепцией «адамизма». «Адамизм», предстающий смысловым основанием формирующийся в творчестве поэта акмеистической парадигмы миропонимания, оказывается принципом художественной верификации взаимодействия микрокосма и макрокосма. Представления об Адаме в поэтике Н. Гумилева 1909–1910 гг. вырастают из ранней символистской рефлексии над дихотомией реальности и идеала, данности и первоистоков, времени и вечности, становится знаком динамического бытия и подлинных метаморфоз. В стихотворении «Сон Адама», являющемся концептуальной реализацией «провиденциального» нарратива в поэзии Н. Гумилева, Первочеловек Адам предстает носителем и воплощением изначальной девственности мира. Гумилевское нарративное мышление, ориентированное на вскрытие событийного горизонта человеческого бытия, помещает Адама в эпицентр онтологического развития мира. В поэтическом мире Н. Гумилева данный библейский персонаж мыслится не только истоком антропологии, но и событийным самоосуществлением человека в миропорядке. Гумилевский Адам являет и «интеграл» событийных перспектив человечества, и инвариант человеческого самоопределения, что эксплицируется в поэтике стихотворения «Сон Адама». Соответственно, «адамизм» поэта концептуально очерчивает контуры мифопоэтической, исторической и эстетической сущности «я», сопряженной с первородством Адама. Изображаемый в гумилевском стихотворении Эдем предстает не только и не столько пространством гармонии, сколько пространственной точкой отсчета – движения из вечности в бездны времени.
Н. Гумилев, Адам, адамизм, историософские смыслы, поэтический нарратив, мифопоэтика, событийность, художественная онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/149149376
IDR: 149149376 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-63
Текст научной статьи «Провиденциальный» нарратив в стихотворении Н.С. Гумилева «Сон Адама». Статья первая
Рассматривается нарративная поэтика стихотворения Н. Гумилева «Сон Адама» как реализация историософских и эсхатологических воззрений поэта на рубеже 1909–1910 гг. В первой статье осмысляются концептуальные основания гумилевского лирического повествования, сопряженные с концепцией «адамизма». «Адамизм», предстающий смысловым основанием формирующийся в творчестве поэта акмеистической парадигмы миропонимания, оказывается принципом художественной верификации взаимодействия микрокосма и макрокосма. Представления об Адаме в поэтике Н. Гумилева 1909–1910 гг. вырастают из ранней символистской рефлексии над дихотомией реальности и идеала, данности и первоистоков, времени и вечности, становится знаком динамического бытия и подлинных метаморфоз. В стихотворении «Сон Адама», являющемся концептуальной реализацией «провиденциального» нарратива в поэзии Н. Гумилева, Первочеловек Адам предстает носителем и воплощением изначальной девственности мира. Гумилевское нарративное мышление, ориентированное на вскрытие событийного горизонта человеческого бытия, помещает Адама в эпицентр онтологического развития мира. В поэтическом мире Н. Гумилева данный библейский персонаж мыслится не только истоком антропологии, но и событийным самоосуществлением человека в миропорядке. Гумилевский Адам являет и «интеграл» событийных перспектив человечества, и инвариант человеческого самоопределения, что эксплицируется в поэтике стихотворения «Сон Адама». Соответственно, «адамизм» поэта концептуально очерчивает контуры мифопоэтической, исторической и эстетической сущности «я», сопряженной с первородством Адама. Изображаемый в гумилевском стихотворении Эдем предстает не только и не столько пространством гармонии, сколько пространственной точкой отсчета – движения из вечности в бездны времени.
ючевые слова
-
Н. Гумилев; Адам; адамизм; историософские смыслы; поэтический нарратив; мифопоэтика; событийность; художественная онтология.
A.A. Chevtaev (St. Petersburg)
“PROVIDENTIAL” NARRATIVEIN THE POEM “ADAM’S DREAM” BY N.S. GUMILEV. ARTICLE FIRST
A
bstract
The article examines the narrative poetics of N. Gumilev’s poem “Adam’s Dream” as a realization of the poet’s historiosophical and eschatological views at the turn of 1909–1910. The first article explores the conceptual foundations of Gumilev’s lyrical narrative, coupled with the concept of “adamism”. “Adamism”, which appears as a semantic basis formed in the poet’s work of the acmeistic paradigm of worldview, turns out to be the principle of artistic verification of the interaction of the microcosm and the macrocosm. Ideas about Adam in the poetics of N. Gumilev’s 1909–1910s grow out of an early symbolist reflection on the dichotomy of reality and ideal, reality and origins, time and eternity, becomes a sign of dynamic being and genuine metamorphoses. In the poem “Adam’s Dream”, which is a conceptual realization of the “providential” narrative in N. Gumilev’s poetry, the First Man Adam appears as the bearer and embodiment of the primordial virginity of the world. Gumilev’s narrative thinking, focused on opening the event horizon of human existence, places Adam at the epicenter of the ontological development of the world. In the poetic world of N. Gumilev, this biblical character is thought of not only as the source of anthropology, but also as the eventful self-realization of man in the world order. Gumilev’s Adam is both an “integral” of humanity’s event perspectives and an invariant of human self-determination, which is explicated in the poetics of the poem “Adam’s Dream”. Accordingly, the poet’s “Adamism” conceptually outlines the contours of the mythopoetic, historical and aesthetic essence of the “the self”, associated with the birthright of Adam. The Eden depicted in Gumilev’s poem appears not only and not so much as a space of harmony, but as a spatial reference point – the movement from eternity into the abyss of time.
K
ey words
N. Gumilev; Adam; adamism; historiosophical meanings; poetic narrative; mythopoetics; eventfulness; artistic ontology.
В поэтическом мире Н.С. Гумилева смыслообразование определяется, прежде всего, системой различных переходов пространственных, временных, субъектных и онтологических границ существования человека. Воля к освоению мира в творчестве поэта предстает концептуально оформленным параметром художественной идеологии, что закономерно обусловливает репрезентацию различных событийных сдвигов в моделируемом универсуме. Утверждаемая в гумилевской поэзии событийность, обнаруживая и эпические признаки (фабульно очерченную трансформацию изображаемого мира и систему каузально связанных ситуаций), и лирические черты (экспликацию ментальной динамики субъектного мировидения [Зусева-Озкан 2020]), продуцирует усиление нарративности в построении поэтического высказывания. Это позволяет поэту, во-первых, объективировать индивидуальный опыт самополагания лирического «я» в мире и представить его в качестве некой истории, а во-вторых, явить мифологическую универсальность бытийного присутствия человека в мироздании как систему событийно-ситуативных актов взаимодействия на оси «микрокосм – макрокосм».
Как отмечает Л.Г. Кихней, в лирике акмеистов и особенно – в творчестве Н. Гумилева акцентируемая «“нераздельность” лирического субъекта и мира привела к формированию <…> квази-повествовательных жанров (“лирической новеллы”, “лирической баллады”)» [Кихней 2001, 72]. Обозначенная исследователем «мнимость» или «иллюзорность» повествования определяется тем, что во многих поэтических произведениях Н. Гумилева наблюдается сложная комбинация элементов эпического нарратива и лирической концентрации на ментальных перипетиях микрокосма. При этом в гумилевских модификациях нарративных моделей поэмы и баллады постоянно обнаруживается «лириза-ция» повествовательного акта, в результате чего означаемым репрезентируемого ряда событий становится онтологическая самоактуализация лирического субъекта в универсуме.
Одной из функций нарратива в поэтике Н. Гумилева является утверждение экзистенциальных прозрений о сущности человеческого «я» и его динамическом стремлении обрести единство с мирозданием. Жажда преодолеть бытийные разрывы между микрокосмом и макрокосмом и прозреть конечную точку земного движения человечества образуют концептуальное ядро гумилевской художественной идеологии. Поэтому постижение историософских и эсхатологических перспектив бытия, эксплицируемое в творчестве поэта, с одной стороны, свидетельствует о включенности гумилевских исканий в общий ценностный контекст русской литературы начала XX в., а с другой – показывает индивидуально-авторское видение истоков и итогов существования земного мира. Конечно, историософские представления Н. Гумилева трансформируются в процессе развития его художественного самосознания. Так, «историософия» в символистско-неоромантической поэме «Северный Раджа» (1908), в акмеистическом стихотворении «Стокгольм» (1917) и в мистическом «видении» «Заблудившийся трамвай» (1919) обнаруживает различные смысловые грани, но при этом остается константным параметром созидаемого поэтом окказионального мифа об онтологической взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
В настоящей статье мы обращаемся к тому аспекту провиденциальных и историософских представлений Н. Гумилева, который сопрягается с постулированием образа Адама как антропологического интеграла и продуцирует репрезентацию своеобразного «адамического» нарратива в гумилевском творчестве на рубеже 1900-х – 1910-х гг. Стихотворение «Сон Адама», являясь концептуальным воплощением гумилевских представлений о событийной динамике человечества, с одной стороны, маркирует горизонты художественной антропологии в предакмеистической поэтике Н. Гумилева, а с другой – представляет нарративную экспликацию обретения человеком онтологического опыта посредством прозрения исторических перспектив тварного мира. Про-блематизация смысла человеческого существования в поэтике «Сна Адама», сопряженная с гумилевскими исканиями рубежа 1900-х–1910-х гг., оказывается интегрированной в концепцию «адамизма», которая складывается в сознании поэта как «пролегомены» к будущему акмеизму. Поэтому осмысление нарративной организации данного текста требует уяснения онтологической и поэтической сущности «адамизма» в творческом сознании Н. Гумилева.
Адам как антропологическая первооснова земного (человеческого) мира оказывается средоточием историософских, эсхатологических и апокалиптических смыслов в гумилевской системе мировидения. Как известно, теоретически обосновывая возникновение акмеизма, его создатели фундаментом новой концепции творчества мыслят «адамизм», то есть возврат к бытийным перво-истокам и равновесию между антиномичными явлениями миропорядка. При этом «адамистическая» сущность поэзии понимается акмеистами по-разному. Если в воззрениях С. Городецкого новый Адам призван «опять назвать имена мира и тем вызывать всю тварь из влажного сумрака в прозрачный воздух» [Городецкий 2014, 88], то есть реорганизовать бытие, то для Н. Гумилева «ада-мизм» воплощает собой «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь» [Гумилев 1998–2007, VII, 147] и мыслится стоическим принятием земного человеческого удела во всей полноте ее трудностей и свершений. Различия в трактовке «адамизма» обусловлено тем, что акмеисты по-разному понимают фигуру Адама, к которой апеллируют в своих творческих построениях. С. Городецкий, так же как М.А. Зенкевич и В.И. Нарбут, видит в Адаме комплементарный их исканиям символ возвращения к архаическим основам существования и новой «точки отсчета» жизненных и поэтических практик. Н. Гумилев же обращается к Адаму как к ветхозаветному прародителю человечества и потому наделяет его образ смыслом витального присутствия тварного начала во всех проявлениях человеческого «я». Как убедительно доказывает А.В. Филатов, в гумилевской поэтике миф об Адаме восходит к библейским традициям и концептуально определяет ментальные и сюжетные экспликации лирического субъекта [Филатов 2018, 172–173]. Актуализация Адама как центра мифопоэтической модели мира в поэзии Н. Гумилева свидетельствует о понимании «адамизма» в качестве основы противоречивого движения человечества к конвергенции микрокосма и макрокосма.
Адам как лирический персонаж появляется в гумилевской поэзии в 1909–1910 гг., когда поэт еще тесно связан с символистскими художественными практиками и выходы к иной поэтике только намечаются в его творческом самосознании. «Адамические» коннотации отчетливо проступают в третьей книге стихов поэта «Жемчуга» (1910), эксплицирующей логику перехода от символизма к будущему акмеизму. В стихотворениях «Потомки Каина» (1909), «Сон Адама» (1909), «Адам» (1910), «Театр» (1910), вошедших в состав данной книги, наблюдаются явные отсылки к ветхозаветным контекстам «адамиз-ма». Адам здесь предстает не новым человеческим «я», а вечно живым самоопределением Первочеловека, инспирировавшего весь последующий маршрут онтологического движения мира в его многомерных антропологических проекциях.
Стремление поэта постичь сущность Адама и его историко-провиденциальное значение концептуализируется в стихотворении «Сон Адама». В сознании Н. Гумилева данный поэтический текст обладает особым ценностным статусом, что маркировано его помещением в «сильную» позицию в структуре обеих редакций «Жемчугов». В издании 1910 г. «Сон Адама» завершает первый раздел книги «Жемчуг черный», а в редакции «Жемчугов» 1918 г. предстает финальным стихотворением всей книги и тем самым пуантирует акмеистическое восприятие Н. Гумилевым своей ранней поэзии. Очевидно, что в обеих версиях «Жемчугов» этот текст суммирует аксиологические представления и устремления лирического субъекта. Нарративно разворачивая бытие ветхозаветного Первочеловека и интегрируя его в историческую судьбу человечества, Н. Гумилев предлагает свое видение движения мира из прошлого через настоящее в будущее.
Стихотворение «Сон Адама» вызывает пристальное внимание в «гумиле-воведческих» исследованиях. Так, Ю.Н. Верховский в работе 1925 г. отметил, что данное произведение «дает образ грезе поэта о первобытно-светлой душе, испуганной познанием жизни человеческой» [Верховский 2000, 521]. Этот тезис об «адамическом» видении грядущего впоследствии порождает различные интерпретации. По мысли И. Делич, стихотворение предлагает «своеобразное “мифологическое обобщение” экзистенциальных условий общечеловеческого бытия», осмысление которых пуантируется тем, что библейский «Адам обретает себя и свой дом» [Делич 1995, 193–194]. Опыт аксиологически «положительного» прочтения «Сна Адама» приводит к его нарочито религиозно-христианскому пониманию [Зобнин 2020, 209–210; Климчукова 2012, 44–45], которое нам представляется несколько утрированным. В творческой концепции Н. Гумилева христианство является отнюдь не вершиной, а одним из ценностно значимых ориентиров бытийного самоопределения человека. При этом вызывает сомнения и противоположная интерпретация данного текста как «художественно-философского обоснования грядущего триумфа Люцифера» [Слободнюк 2010, 217], то есть – как истории нисхождения тварного «я» к сугубо земным горизонтам. Наиболее адекватным поэтике гумилевского стихотворения видится предлагаемое А.В. Филатовым понимание «Сна Адама» как поэтически развернутого «духовного преображения», обусловленного «мистическим переживанием опыта развития человечества» [Филатов 2017, 142]. Исследователь показывает, что прославление этого библейского персонажа в поэтике Н. Гумилева является «необходимым условием для принятия земного мира и сознания места человека в нем» [Филатов 2017, 143]. «Адамический» стоицизм, утверждаемый поэтом посредством образа Адама и его историософских и эсхатологических прозрений, эксплицирует ту «точку сознания» гумилевского «я», которая способствует претворению символистского идеала в акмеистически «заземляемую» реальность сотворенного мира.
Предлагаемые рецепции стихотворения сосредоточиваются на его идеологии и практически не учитывают нарративный характер сюжетной репрезентации истории Адама и его сновидческого постижения бытия. Однако именно нарративность поэтического высказывания предстает здесь ведущим механизмом смыслообразования. Гумилевский «адамизм» принципиально сопрягается с деятельным началом человека в бытии, воплощаемом в поступках и событийных коллизиях, и поэтому Адам прежде всего сознает бытийную сущность событий, свершающихся в провиденциально постигаемой истории человечества.
Данный текст состоит их 18-ти шестистиший, то есть представляет достаточно объемную стихотворную структуру, что приводит к частому определению жанровой природы «Сна Адама» как поэмной [Верховский 2000, 520–521; Зобнин 2020, 210]. При всей актуализации жанровых признаков поэмы, обнаруживаемых в данном произведении Н. Гумилева, нам представляется более корректным говорить о некотором поэмном «ореоле», так как в «Сне Адаме» проявляются и иные жанрово-модальные черты. «Сон Адама» предстает окказиональной нарративной структурой, в которой эпическое повествование постоянно «лиризуется», а лирическое начало обретает эпическое воплощение.
Повествование в стихотворении «Сон Адама» репрезентирует два событийных ряда: первый относится к мифологическому бытию героя в гармоничном единстве сотворенного мира, а второй – раскрывает сновидческое постижение исторического пути человечества. Соответственно, первый ряд событий в своей сюжетно-фабульной упорядоченности является обрамлением для второго – собственно сна Адама. Такое соотношение двух планов повествова- ния одновременно подчеркивает различия между явью и сновидением героя и утверждает их единство в «историософской» перспективе движения земного универсума. Явь и сон в структуре стихотворения равновесно способствуют вскрытию онтологического предопределения и предназначения человека.
В начале текста изображаемый мир локализуется в пространственно-временных координатах библейского Эдема, где Первочеловек Адам живет в девственно-чистом состоянии неведения добра и зла. Нарратор акцентирует здесь темпоральную дистанцию между актом повествования и повествуемыми событиями. Занимая «точку зрения», внеположную диегесису и отмеченную «всеведением» и «вездесущностью» по отношению к герою, гумилевский повествователь постулирует свою позицию как своеобразное «сверхисторическое» положение в бытии. «Внеличная» повествовательная перспектива позволяет представить архаический (мифологически-библейский) мир предельно масштабным, обладающим космической беспредельностью:
От плясок и песен усталый Адам Заснул, неразумный, у Древа Познанья. Над ним ослепительных звезд трепетанья, Лиловые тени скользят по лугам, И дух его сонный летит над лугами, Внезапно настигнут зловещими снами [Гумилев 1998–2007, I, 255].
Фокусируя «взгляд» на ветхозаветном Адаме, существующем в гармонии райского сада, нарратор сразу эксплицирует ключевое событие повествуемой истории – погружение Первочеловека в сон, актуализированное «сильной позицией» заглавия текста. При этом изображение героя и пространства, в котором он пребывает, обнаруживает не столько идиллические коннотации, предполагаемые жизнью в Эдеме, сколько драматическую семантику грядущего откровения о бытии. Во-первых, «Древо Познанья», сорванный плод с которого, согласно христианской концепции мира, обусловливает грехопадение человека и его помещение в историческое измерение бытия, предстает пространственным маркером историософского откровения в Адамовом сновидении. В-вторых, подчеркнутая в первой строке стихотворения «усталость» Первочеловека обнаруживает двойной семантический план: с одной стороны, она обозначает физическое утомление Адама, радостно (в «плясках и песнях») прославляющего данное Богом ему и миру бытие, а с другой – указывает на пресыщенность бессобытийной однообразностью существования, выходом из которой мыслится сновидческая реальность. Соединение на синтагматической оси текста «усталости» Адама и «Древа Познания» объясняет «неразумность» героя и проспективно индексирует события, которые обусловят начало человеческой истории – грехопадение, изгнание из Эдема и страдальческий удел человека в координатах земного мира. Адам оказывается «неразумным», так как избирает местом своего отдыха-сна Древо Познания, которое еще до грехопадения оказывает на его сновидения роковое влияние – открывает ему антиномическую сложность грядущего бытия.
Нарратор, рассказывая о погружении в сон «усталого», «неразумного» Первочеловека, акцентирует готовность к событийным сдвигам и ожидание бытийной динамики в состоянии самого сотворенного пространства («Над ним ослепительных звезд трепетанья, / Лиловые тени скользят по лугам» (курсив наш – А.Ч.)). При этом особенно важным оказывается эпитет «зловещие», по- средством которого вскрывается суть сновидений, «внезапно настигающих» Адама. Такое определение свидетельствует о том, что сновидческий опыт героя является его онтологическим «выпадением» из эдемской «идиллической» вечности и приобщением к еще не совершенным, но уже предопределенным результатам будущего грехопадения. «Зловещие сны» маркируют то измерение бытия, в котором Адаму суждено познать свое грядущее существование и постичь свое «я» как мерило земного развития универсума.
Заданные параметры нарратива оказываются принципиально значимыми в контекстах, как ранней (символистской) поэзии Н. Гумилева, так и его «переходного» (собственно «адамического») творчества. Сновидение, а точнее – «магнетический» сон, посредством которого профанному «я» открывается сакральная подоплека бытия, является объектом и сюжетной основой лирического высказывания большинства стихотворений второй (предельно рафинированной и неоромантической) книги стихов поэта «Романтические цветы» (1908) [Баскер 2000, 9–51]. В свою очередь, Адам, представления о котором в сознании Н. Гумилева вырастают из ранней символистской рефлексии над дихотомией реальности и идеала, данности и первоистоков, времени и вечности, становится знаком динамического бытия и подлинных метаморфоз. В гумилевской поэзии Первочеловек Адам, изначально явленный в раю и раю предназначенный, обречен на выход их божественной вечности в человеческое время. Поэтому данный библейский персонаж мыслится не только истоком антропологии, но и событийным самоосуществлением человека в миропорядке.
Как указывает В.И. Тюпа, событийность неизбежно предполагает некоторое «смысловое измерение» повествуемых изменений в состоянии мира, а потому «для осмысления происходящего требуется определенный контекст: соположение ряда событийных происшествий (предшествовавших, последовавших, параллельных) и некоторого внесобытийного фона» [Тюпа 2021, 27]. Таким контекстом в гумилевской интерпретации бытия Адама оказывается сопряжение внесобытийной (идиллически-первозданной) вечности и исторического времени, в котором человек обречен на реализацию своего тварного потенциала.
Итак, Адам в поэзии Н. Гумилева, сновидчески обреченный узреть грядущее человеческого рода, мыслится истоком (абсолютным «посюсторонним» актантом) событийного развертывания человечества. Формула гумилевского «адамизма» («В суровой доли будь упрям, / Будь хмурым, бледным и согбенным, / Но не скорби по тем плодам, / Неискупленным и презренным» («Адам») [Гумилев 1998–2007, I, 269]) требует ценностно-смыслового обоснования и событийного объяснения, которым и является «провиденциальный» нарратив в стихотворении «Сон Адама».