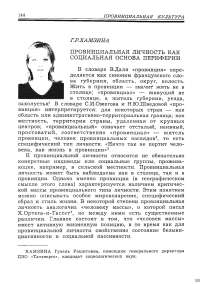Провинциальная личность как социальная основа периферии
Автор: Хамзина Гузель Рашитовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 2 (51), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержание понятия «провинциальная личность». Лечится проблема социальной анемии провинции. Представлена характеристика современного русского крестьянства, во многом определяющая «лицо» русской провинции.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222165
IDR: 147222165
Текст научной статьи Провинциальная личность как социальная основа периферии
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ПЕРИФЕРИИ
В словаре В.Даля «провинция» определяется как синоним французского слова губерния, область, округ, волость. Жить в провинции — значит* жить не в столице; «провинциал» — живущий не в столице, а житель губернии, уезда, захолустья1 В словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой «про
винция» интерпретируется: для некоторых стран — как область или административно-территориальная граница; как местность, территория страны, удаленная от крупных центров; «провинциальный» означает отсталый, наивный, простоватый, соответственно «провинциал» — житель провинции, человек провинциальных взглядов2, то есть специфический тип личности. «Ничто так не портит человека, как жизнь в провинции»3.
К провинциальной личности относятся не обязательно конкретные индивиды или социальные группы, проживающие, например, в сельской местности. Провинциальная личность может быть наблюдаема как в столице, так и в провинции. Однако именно провинция (в географическом смысле этого слова) характеризуется наличием критической массы провинциального типа личности. Этим понятием можно описывать особое мировоззрение, специфический образ и стиль жизни. В некоторой степени провинциальная личность аналогична «человеку массы», о которой писал X.Ортега-и-Гассет4, но между ними есть существенные различия. Главное состоит в том, что «человек массы» имеет активную жизненную позицию, в то время как для провинциальной личности свойственно состояние безынициативности и социальной пассивности.
ХАМЗИНА Гузель Рашитовна, помощник генерального директора ПЭО «Татэнерго», кандидат социологических наук.
П.Друкер, Э.Гидденс полагают, что провинциальная личность не готова к инновациям, экспериментам, изменениям, и в этом смысле она противостоит личности общества постмодерна5 Провинциальной личности традиционно свойственна инертность мышления и социального действия, скованность, зависимость от группы, коллектива, конформизм (желание «быть как все, ничем не выделяясь от остальных», некритическое отношение к своим жизненным перспективам), социальная неуверенность. Она не настойчива в преодолении препятствий при достижении поставленных целей, не планирует будущие свои действия, склонна идти по «течению», не ставя больших жизненных целей, заведомо не видя ресурсов для их достижения. Провинциальная личность социально безамбициозна. Ее мало интересуют события общественной жизни за пределами своего физического пространства. Она аполитична, далека от проблем «большой политики», политически неискушенна и доверчива. Следовательно, она более социально управляема и является податливым социальным материалом для манипулирования ее мнением и сознанием. Провинциалы проживают свою жизнь размеренно, для них время — «не деньги». Свободное время тратится на малосодержательное в эстетическом отношении общение (общение с родственниками, друзьями, хождение в гости и т.п.). Когда провинциальным жителям приходится бывать в больших городах, то они с трудом воспринимают несвойственный им напряженный ритм жизни.
Известное высказывание Ж.П.Сартра «ад — это другие люди» можно экстраполировать и на провинциальную среду обитания людей: адом или угнетающими чаще всего становятся отношения людей, протекающие в виде очень тесных и непрерывных. В столичном или другом крупном городе отношения между людьми анонимны и безличны, человек в нем может уйти от среды деловых отношений в личный круг общения, сводя партнеров общения до минимума. В селе и некрупном провинциальном городе эти возможности самоизоляции личности от процесса непрерывного общения сильно сужены, они вступают в постоянные отношения «лицом к лицу».
Провинциальная среда является благоприятной почвой для формирования стереотипного мышления, конформизма и авторитарности личности. По наблюдениям Т.Адорно, одного из видных представителей критической школы социологии, автора концепции авторитарной личности, люди авторитарного типа, как правило, строгие конформисты, смиренны перед тем, кого они ставят выше себя, и пренебрежительны к тем, кто находится ниже их. Авторитарная личность складывается, по мнению ученого, в результате воспитания, когда родители не способны открыто выражать любовь к ребенку, ведут себя отстраненно и требовательно6. Подобное отстраненное и требовательное отношение к окружающим в последующем транслируется авторитарной личностью на все ситуации социального взаимодействия.
Вышеприведенные суждения соответствуют и традиционной системе воспитания в провинциальных сообществах, где строгость запретов является нормой общения взрослых и детей. Авторитарность воспитания способствует становлению послушной и легко управляемой личности. Далеко не случайно в периоды избирательных кампаний разных уровней самым управляемым электоратом в России всегда становится провинциальное население.
Провинциальность личности, таким образом можно обозначить как образ и стиль жизни, менталитет, где тесно переплетены авторитарные тенденции и стереотипы. Провинциальная личность глубоко аномична.
Большинство российских ученых ограничивается констатацией факта аномии общественного сознания постсоветского периода, но мало глубоких исследований региональных особенностей этого процесса. И это несмотря на то, что российское общество еще с начала 90-х гг. XX в. пребывает в аномическом состоянии.
При всей дифференцированности процесса аномии в провинциальных и сверхпровинциальных сообществах она имеет свои особенности. Основными чертами этого процесса являются чувство социального одиночества; пессимистические самооценки жизненных шансов; субъективное представление о том, что современный этап развития страны есть откат назад в сравнении с предыдущим советским периодом; сохранение патерналистских предубеждений, чувство сожаления по поводу утраты советских традиций, обычаев и др.
Аномия общества социологами рассматривается как продукт индустриализации, урбанизации, а также стремительных социальных потрясений. Такими потрясениями для российского общества и его подсистем стала смена политического режима, социального порядка с началом преобразований 90-х гг. XX в. Нельзя не согласиться с социологами, считающими, что, достигнув пределов, аномия может вызвать смерть общества7. Приходится констатировать, что имеются все признаки того, что старое, советское общество умерло, и мы «присутствуем» при рождении нового общества.
Итак, социальной базой периферии выступает провинциальная личность. Ее характеристики имеют мало общего с ценностными ориентациями «достижительского» типа. Скорее, наоборот, провинциальная личность продуцирует авторитарные тенденции на периферии. Однако важность провинциальной личности не может быть поставлена под сомнение, поскольку практики такой личности конструируют границу между центром и периферией. Ру типизируясь, подобные практики формируют специфические поля с собственной системой ценностей, символов и системой коммуникации, которые и разделяют пространство на центр и периферию. Именно этот аспект является центральным для понимания логики функционирования периферии.
При анализе объективных критериев классификации центра и периферии можно констатировать факт деприви-рованности периферии. Г.Франк, Е.Кардозо, дифференцируя мир на основной и периферийный, писали, что периферии уготована бедность. Эти же положения можно с определенными оговорками применить к странам, где городские и сельские условия, уровень и качество жизни сильно отличаются. Все те черты, которые О.Конт приписывал «допромышленному обществу», а Э.Дюркгейм — обществу «механической солидарности», Ф.Теннис — «общине», при близком рассмотрении оказываются присущими (в модифицированном виде) и российскому агропромышленному, сверхпровинциальному сообществу. Это, в частности, проявляется в сходной морали, развитом религиозном сознании, коллективизме, характерном, по мнению большинства социологов, прежде всего для крестьянской общины.
Крестьянству в социологии дается классическое определение как специфической совокупности людей, занятых мелким сельскохозяйственным товарным производством с использованием простого инвентаря и труда членов своей семьи. Работа крестьян направлена прямо или косвенно на удовлетворение «своих собственных потребительских нужд и на выполнение обязательств по отношению к обладателям политической и экономической власти»8
Основными характеристиками крестьянства являются: во-первых, семейное производство, функционирующее вне логики национального рынка труда и ориентированное на потребительские нужды. Семья в данном случае выступает институтом адаптации и выживания. Семейное производство выполняет множество функций, начиная от физического воспроизводства, заканчивая распределением статусных привилегий и благосостояния. Личность в крестьянском хозяйстве подчинена патриархальной системе ценностей. Во-вторых, низкий уровень профессиональной специализации предопределяет соединение этапов первичной и вторичной (профессиональной) социализации в рамках семьи. В-третьих, цикличность хозяйственной активности, жестко связанной с климатическими условиями: природа и трудовая деятельность оказываются неразрывно связанными друг с другом элементами хозяйственной активности. В-четвер-тых, земля — основной капитал крестьянского хозяйства и основной источник существования. В-пятых, привязанность культурных образцов к крестьянской общине. В общине доминируют традиционные и конформистские установки, способствующие в итоге формированию специфического типа личности, близкого по своим типологическим характеристикам к провинциальной личности. В-шестых, подчиненное положение по отношению к не крестьянам.
Эти специфические особенности крестьянства, по мнению Т.Шанина, являются взаимозависимыми и представляют собой целостность9. Следует указать на ряд характерных черт, свойственных системе крестьянского хозяйства и предопределяющих ее периферийное положение.
Крестьянское хозяйство почти всегда нацелено на выживание, а не на накопление капитала. Российские крестьяне не являются исключением. Подавляющая часть сов- ременного российского крестьянства переживает один из самых драматичных моментов своей истории. Крестьянство пока исключено из потока жизни «большого общества»; материальное благосостояние большинства крестьян характеризуется низким уровнем и не может сравниваться со среднероссийским. В то же время наличие крестьянского хозяйства позволяет крестьянам и в тяжелых условиях социальных изменений найти эффективные способы адаптации к внешней среде.
Крестьяне имеют гибкие способы обеспечения занятости, которые в отличие от городских условий не привязаны жестко к какому-либо сегменту рыночной активности. Последний факт является одной из главных предпосылок сохранения российской деревни. Известно, что только часть рабочего времени крестьяне уделяют занятости в формальном секторе экономики. Материальное вознаграждение труда в формальном крестьянском секторе незначительно, что способствует выбору иных форм трудовой деятельности, главным образом, в домашнем хозяйстве.
Крестьянский труд осуществляется при активном использовании социального капитала (социальных связей). Привлечение этой формы капитала в хозяйственной деятельности позволяет минимизировать материальные издержки и максимизировать полезность некапиталоемкого крестьянского хозяйства. Привлечение наемного труда для домашнего крестьянского хозяйства не практикуется. Взаимная поддержка (например, в виде кредитования) осуществляется также через социальные сети. Последние позволяют получать беспроцентные ссуды на неопределенные сроки и способствуют тем самым адаптации крестьянского хозяйства к рыночным отношениям. Для крестьянского хозяйства в целом характерно использование в рамках экономических трансакций неформальных каналов. Это позволяет крестьянам избегать сложностей во взаимоотношениях с государством, предлагающим неравные условия для экономических взаимодействий, что считается одной из главных причин непопулярности частных фермерских хозяйств в настоящее время.
Таким образом, позиция села и сельских жителей в социальном и физическом пространствах оказывается на
«периферии периферий». Сельское население исключено и из сферы высшего образования: выходцы из села имеют минимальные шансы поступления не только в наиболее престижный, но и в «самый обычный» вуз из-за коммерциализации высшего образования. Это способствует закреплению и самовоспроизводству низкого социального статуса представителей села.
В то же время крестьянские хозяйства вырабатывают эффективные стратегии по встраиванию в рыночные отношения. Большинство этих стратегий не приводит к накоплению экономического капитала, поскольку направлены на выживание и адаптацию к сложным условиям. Однако такая форма капитала, как социальный (социальные связи), позволила российским крестьянам пережить негативные последствия первых лет реформ. Выяснилось, что игнорируемая исследователями историческая специфика российской деревни, основанная на широких родственных связях, имела и позитивные последствия. Общность крестьян выступила как амортизатор негативных последствий рыночных преобразований.
В то же время внутри села появляются новые специфические особенности, не характерные для описанной выше традиционной модели крестьянского хозяйства. Например, социальные девиации и делинквенции всех видов, ранее малораспространенные в селе, сегодня становятся привычными, что свидетельствует, помимо других причин, и об ослаблении традиционного социального контроля, функции которого в определенной степени выполняло коллективное мнение. Расчетливость, ориентация на индивидуализм постепенно вытесняют традиции коллективизма и взаимопомощи. Все это ведет к разрушению патерналистских стереотипов, что не может быть оценено исключительно с положительных позиций. Последствия этой рационализации жизни российской деревни, по-видимому, некоторое время будут, скорее, негативные, поскольку российское крестьянство в настоящее время лишается основного инструмента адаптации — групповых социальных связей.
То, что трансформирующееся российское общество есть новая социальная реальность, только сейчас осознается провинциальным сообществом, окончательно убедившимся в том, что уже нет прежней базы, на которой осуществлялась социализация среднего и старшего поколений. Поскольку средний возраст сельского населения исчисляется в пределах предпенсионного и пенсионного возрастов, то это особенно болезненно воспринимается именно этим поколением. У молодой части провинциального населения постепенно формируются новые культурные стереотипы. Если у старшего поколения не было большого выбора в потреблении культурной продукции, то у провинциальной молодежи такая свобода выбора есть. Однако и она ограничена.
Сельское население в настоящее время находится во власти новых администраций различных предприятий, самолично распоряжающихся на «собственной» территории. Российская провинция, особенно сверхпровинция, таким образом, в настоящее время — это «государство в государстве», «общество в обществе», где население представляет собой сообщества традиционного типа, далекие от модернизации и постмодернизации.
В целом российская провинция — это другая культура. Крупные областные или республиканские города, в свою очередь, отличаются как от столичных городов, так и от села. Сельское сообщество близко по образу и стилям жизни, ценностным ориентациям, общественному устройству к сообществам малых городов или поселков городского типа, тем не менее отличается и от них. Между указанными культурами лежит такая большая социальная дистанция, что она позволяет фиксировать факт одновременного сосуществования в рамках «большого» общества нескольких типов обществ и культур. Особенно разительны различия в структуре ценностей провинциальных сообществ. В частности, политическую свободу, демократию, свободу передвижений, экономической деятельности, частную собственность, ориентацию на «достижительность» успеха при социологических опросах относят к «ценности» опрашиваемые жители столичных и в меньшей степени — крупных городов, тогда как у респондентов, жителей малых городов, тем более — села, эти ценности постмодерна в иерархии ценностей или не значатся, или находятся на второстепенных позициях.
Провинциальное население в период преобразований 90-х гг. XX в. оказалось в условиях физического самовы-живания как «самостоятельное сословие», находясь на полном самообеспечении за счет натурализации хозяйства, что отбросило его намного лет назад. Продолжает расти территориальная изолированность провинциальных населенных пунктов. Местная исполнительная власть в селе маловлиятельна, не имеет ресурсов для оказания социальной помощи населению. Формирующиеся на такой социальной основе провинциальное мировоззрение и менталитет не вписываются в либеральный тип общественного сознания, способствуя формированию и воспроизводству описанного выше провинциального типа личности. Вновь созданные сельскохозяйственные ассоциации не обладают теми интегративными функциями, которые ранее выполнялись колхозами и совхозами. Разобщенность, хозяйственный хаос вызвали формирование несвойственной сельской общине психологии «каждый за себя».
Провинциальная специфика социальной жизни российского общества в настоящее время не только не сокращается, а, напротив, усиливается. «Утечка мозгов» в периоды девальвации профессионализма, образования в начале реформ крайне обеднила провинцию. Почти прекратился приток в село талантливой молодежи. Та ее часть, у которой имеются материальные или творческие шансы, предпочитает жить и работать либо в городах, обладающих статусом административного центра, либо устремляется на заработки в столичные города.
Готовящиеся в провинциальных учебных заведениях кадры в подавляющем своем большинстве не имеют возможностей из-за низкого качества образовательных услуг реализовать свои способности, а, следовательно, обучение в провинциальном вузе часто предполагает лишь получение диплома о высшем образовании. Учебные занятия из-за отсутствия местных педагогических кадров и соответствующего учебного помещения в ряде провинциальных вузов проводятся в «вахтенном режиме» и в вечерние часы, следовательно, даже студенты дневных отделений подобных филиалов совмещают учебу с постоянной работой. За короткий период времени при «вахтенном» методе преподавания учебных дисциплин студенты таких вузов выполняют годовую и семестровую нагрузку, курсовые проекты, сдают зачеты, экзамены. Результатом подобной образовательной политики является значительный разрыв в объеме получаемой учебной информации и качестве знаний в непровинциальных и полупровинциальных вузах и их филиалах. Положительным моментом этой практики следует все же считать то, что учеба в филиалах крупных вузов является интеллектуальным восполнением свободного времени провинциальной молодежи, а получение ею формального высшего образования само по себе может рассматриваться в качестве одного из способов пополнения человеческого капитала.
Анализ социальных изменений в территориально-поселенческом разрезе позволяет сделать некоторые выводы. Существуют пространственные структуры, входящие в «большое» общество, но находящиеся на его периферии. Среди них есть и такие, которые вынесены за ее пределы и представляют собой феномен «периферии периферий» / «постпериферии». Структурные изменения на постпериферии имеют специфическую социальную основу, неодинаковые темпы, неравнозначны по своим последствиям и влиянию на индивидов. Если в центре социальные изменения форматизируют адаптированную к рыночным условиям личность, то на периферии и постпериферии — утверждению пассивных социальных практик и соответствующего провинциального типа личности.
Историческая специфика социально-территориальных структур на разных уровнях проявляет себя неодинаково. «За пределами периферии» влияние предшествующего социального опыта более выражено. В разных сегментах социального пространства для адаптации к происходящим изменениям агентами используются разные капиталы. Так, в селе социальный капитал оказался решающим активом, позволившим населению преодолеть негативные последствия реформ, тогда как в центре и полупериферийных регионах основным индикатором успешности / безуспешности адаптации к рыночным условиям стал экономический капитал.
Социальные изменения в России 90-х гг. XX в. трансформируют все ниши пространственной структуры. Даже в инертной и консервативной к изменениям крестьянской среде это проявляется в постепенном разрушении традиционных ценностей, ориентирующих своих носителей на ближнее окружение. Этот процесс, если полагаться на опыт других стран, носит необратимый характер, и его последствия не могут быть оценены только положительно в контексте трансформации российской культурной специфики. Разные сегменты пространственной структуры по-своему встраиваются в трансформационные процессы. Они не могут быть описаны согласно линейной модели социальных изменений.
Российская провинция всегда отличалась большой зависимостью от центра, но модели ценностей, экономических или политических действий, транслируемых из центра, своеобразно модифицируются в современных повседневных практиках провинциального населения. Наглядный пример: институт рынка труда в российской провинции замещается сетью персональных связей, способствующих воспроизводству трудовых практик, отличных от практик «рыночной» модели. Именно неформальные каналы способствуют снятию социального напряжения, накопившегося в пореформенный период.
Список литературы Провинциальная личность как социальная основа периферии
- См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 2. С. 472. 2
- Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 606.
- Тургенев И.О. Отцы и дети. М., 1980. *
- Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 119-154. 5
- Druker P.F. Post-Capitalist Society. N.Y., 1995; Giddens A. The Consequence of Modernity. Cambridge, 1996. 8
- Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001. 7
- Hilbert R.A. Durkheim and Merton on Anomie: An Unexplozed Contrast and its Derivatives // Social Problems. 1989. № 36. P. 244.
- Шанин Т. Понятие крестьянства // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире: Хрестоматия. М., 1992. С. 24. 9
- Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика современной России // Неформальная экономика. Россия и мир. М., 1999. С. 14.