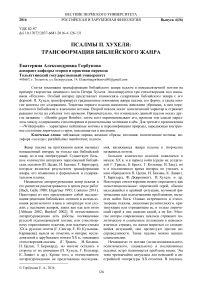Псалмы П. Хухеля: трансформация библейского жанра
Автор: Горбунова Екатерина Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трансформации библейского жанра псалом в немецкоязычной поэзии на примере творчества немецкого поэта Петера Хухеля. Анализируются три стихотворения под названием «Псалом». Особый интерес представляет взаимосвязь содержания библейского жанра с его формой. П. Хухель трансформирует традиционное понимание жанра псалма, его форму, а также многие аспекты его содержания. Тематика первого псалма наполнена женскими образами, в нем переплетаются библейские и языческие мотивы. Второй псалом носит политический характер и отражает реакцию поэта на события того времени. Примечательно, что изначально данный псалом носил другое название - «Bombe gegen Bombe», затем поэт переименовывает его, проводя тем самым параллель между содержанием стихотворения и религиозными мотивами в нём. Для третьего произведения - «Winterpsalm» - характерны пейзажные мотивы и персонификация природы, передающая внутреннее состояние лирического героя, находящегося в изоляции.
Пейзажная лирика, женские образы, изоляция, политические мотивы, метафора "холода", псалом
Короткий адрес: https://sciup.org/14729469
IDR: 14729469 | УДК: 82-97 | DOI: 10.17072/2037-6681-2016-4-126-131
Текст научной статьи Псалмы П. Хухеля: трансформация библейского жанра
Жанр псалма на протяжении веков вызывал повышенный интерес не только как библейский жанр, но и как литературный. Существует большое количество авторских переложений библейских псалмов (П. Целан, И. Бахман, Т. Бернхард), которые являются результатом трансформации жанра, его изменения в формальном и содержательном планах.
Немецкими литературоведами жанр псалма и его развитие рассматривается в целом ряде работ [Bach, Galle 1989; Ehgartner 1995; Conterno 2014]. Некоторые из них представляют собой исследования рецепции библейских мотивов и использования религиозного языка в литературе или схожих с псалмами жанров, таких как ода или гимн [Althaus 2002; Burdorf 2002]. В отечественном литературоведении есть работы, посвященные русской псалмодической поэзии, или стихотворному переложению псалмов, или псалмам-стихам ХХ в. русских поэтов (Г. Сапгир, Е. Ю. Кузьмина-Караваева); нельзя не отметить и интерес исследователей к зарубежным поэтам ХХ в., писавшим стихотворения-псалмы (Г. Тракль, И. Бахман, П. Целан, Т. Бернхард), но многие остались в стороне от их внимания (П. Хухель, Г. Кольмар, К. Лавант и др.). Кроме того, в отечественном литературоведении не представлены исследова- ния, касающиеся жанра псалма в творчестве названных поэтов.
Большое количество псалмов появляется в начале ХХ в. и в период войн (среди их создателей Г. Тракль, Б. Брехт, Г. Кольмар, Н. Закс), но и в послевоенное время интерес не утихает, к ним обращаются П. Целан, И. Бахман, К. Лавант, Т. Бернхард, Ф. Дюрренматт, П. Хухель и др. Некоторые стихотворения можно определить как экзистенциональные: лирический герой, обычно находящийся в крайней ситуации, мучимый физическими или психическими проблемами, пытается найти Бога. Однако встречаются и стихотворные псалмы, лишенные религиозности, критикующие или отрицающие ее, и только лирический герой в них наделен силой, а не Бог. Многие авторы современных псалмов отражают политическое и социальное положение в немецкоязычных странах, не желая мириться со сложившейся ситуацией, они протестуют против несправедливости. Такие псалмы можно назвать социальными.
Независимо от мотива (экзистенционального, политического, социального) в послевоенных псалмах остро поднимается проблема языка. Эта тема чрезвычайно актуальна для немецкой и австрийской литературы ХХ столетия. В послево-
енной работе «Письмо о гуманизме» (1947) М. Хайдеггер пытается снова придать весомое значение слову «гуманизм» после того насилия, которое люди пережили во время войны. Он критикует традиционное понимание гуманизма и говорит о необходимости пробиться к новому гуманизму, переосмыслить бытие человека в новых, послевоенных условиях. В этой же работе он упоминает о большой роли языка для формирования нового гуманизма: «Язык есть дом бытия. Человек обитает в жилище языка. Мыслители и поэты – это обитатели этого жилища» [Хайдеггер 1993]. Именно язык «хранит бытие», поэтому поэты должны обновить этот язык.
Одним из поэтов, стремившихся к обновлению языка, был Петер Хухель. Его творчество часто связывают с пейзажной лирикой, которая имеет свои отличительные черты. В раннем творчестве стихотворения поэта, опубликованные под именем Хельмута Хухеля, носят позднеэкспрессионистский характер. Выражается это в поисках Бога. Например, в стихотворении, вышедшем в 1925 г. под названием «Ты – имя Бога», герой пытается понять, действительно ли Бог существует или это только образ, который мы себе сами рисуем [Андреюшкина 2013: 3]. В дальнейшем поиски Бога Хухель продолжает, обращаясь к природе, которую он персонифицирует; каждое явление природы, как считает поэт, несет в себе определенный смысл. У Хухеля сама природа может что-либо воспроизводить: писать, говорить, петь – и может быть близка и понятна человеку. Иногда язык природы противопоставлен языку людей, и природа в поэзии Хухеля молчит и остается чуждой человеку [Siemes 1996: 145]. Интересно, что в описании природы поэт часто наделяет ее женскими чертами. Для его стихотворений характерны образы матери, старухи или служанки. Помимо прочего, поэт апеллирует и к библейским женским образам.
В раннем стихотворении Хухеля «Псалом», дата выхода которого не сохранилась, можно узнать образы некоторых библейских женщин. Этот псалом разделен на четыре строфы, написанные в свободной форме без использования рифмы. Главным героем в этом стихотворении является лирическое «мы», в нем нет трансцендентных мотивов, которые выступали бы как партнеры в разговоре, но «божественная инстанция» все-таки присутствует. В «Псалме» речь не идет о конце света, мировых катастрофах или об уничтожении человечества, как в других, о которых мы упомянем ниже. Наоборот, он наполнен милосердием и добротой, идущей от женских образов.
В псалме сразу несколько таких образов, к примеру, в первой строфе стихотворения: «Die in
Demut Ähren las / auf dem Feld der Güte, / siehe, / die Göttin der Barmherzigkeit ist nahe, / süße Frucht zu schütten / aus dem Schoß der Liebe» [Huchel 1963a: 452] («Та, что в смирении считает колоски / на поле доброты, / смотри, / богиня милосердия близка, / чтобы помочь выйти сладким плодам / из чрева любви» (здесь и далее перевод автора статьи. – Е. Г. ). Женщина, собирающая колоски, отсылает нас к библейской героине по имени Руфь, которая собирала колоски на поле Вооза [Руфь 2: 1–23]. В то же время данный образ может быть ассоциирован с греческой богиней плодородия Деметрой (в римской мифологии – Церера) [Tripp 2012: 148–152]. С Богородицей героиню первых строк роднит милосердие, потому что в христианстве образ Марии связан с милосердием, добром, отзывчивостью.
Образ женщины, который появляется во второй строфе, напоминает нам Флору, римскую богиню, олицетворяющую собой расцвет природы, весну, цветы [Hunger 1998: 167–168]: «Wenn sie lächelt, / blühen Blumen des Mitleids auf, / leuchtet gütige Vergebung / in den Augen der Menschen» [Huchel 1963a: 452] («Когда она смеется, / расцветают цветы сострадания, / светится истинное прощение / в глазах людей»). Сцена третьего абзаца позволяет вспомнить некоторые сюжеты из Евангелия, такие как свершение Христом, по просьбе Марии, первого чуда с вином на свадьбе, а также чуда, произошедшего при делении хлеба и рыбы [Мф. 14: 13–21; Мк. 6: 30–44; Мк. 8: 1–9]. В псалме это звучит так: «Da wir Wein und Speise teilen / mit dem armen Bruder, / erscheint sie uns/ in der stillen Dankbarkeit seiner Hände /die nach unserm Herzen tasten» [Huchel 1963a: 452] («Когда мы делим вино и еду / с нашим бедным братом, / она является нам / в тихой благодарности его рук, / которые трогают наши сердца»).
Последняя строфа описывает сестру Марии Марфу, которая всегда старается угодить гостям, накрывая на стол: «Immer ist sie die gütig Dienen-de, / Schwester, / die uns den Krug der Erlösung / an den Mund hebt, / Mutter, / die heilenden Balsam auf einsame Wunden streut» [Huchel 1963a: 452] («Она всегда старается услужить, / сестра, / которая подносит нам ко рту / чашу спасения, / мать, / которая наносит целебный бальзам на раны»). Сразу же после Марфы вводится образ матери (Марии) и образ женщин из Галилеи, которые спешили к могиле Христа, для того чтобы умастить его тело маслами, но не нашли его там. Так, используя библейские образы, Хухель, с одной стороны, соединяет библейские мотивы с языческими, с другой стороны, связывает человеческие добродетели (доброта, красота и милосердие) с женскими образами.
Еще один «Псалом» Хухеля относится к его поздней лирике. Его первая версия была опубликована в 1963 г. в журнале «Rote Revue. Sozi-alistische Monatsschrift» под названием «Бомба против бомбы» («Bombe gegen Bombe») [Huchel 1963b: 124]. Интересно, что в рукописной версии Хухеля это стихотворение было посвящено Отто Бёни [Hettche 2009: 201], но в остальные версии стиха посвящение не вошло. Первая версия звучит следующим образом: «Daß aus dem Samen des Menschen / Kein Mensch / Und aus dem Samen des Ölbaums /Kein Ölbaum werde. / Die das Leben schänden / Und unser Schweigen bewohnen / Mit ihrem Geschrei. / Groß ist der Wahn, / Mißt du ihn / Mit der Elle des Todes» [Huchel 1963b: 124] («Из семени человеческого / не возникнет человек / и из семени оливкового древа / не произрастет оливковое дерево. / Те, кто глумятся над жизнью / и заполняют наше молчание / Своим криком. / Велика мания, / Измерь ты её / локтем смерти»). Сравним его с псалмом: «Daß aus dem Samen des Menschen /Kein Mensch / und aus dem Samen des Ölbaums / Kein Ölbaum / Werde, / Es ist zu messen / Mit der Elle des Todes. // Die da wohnen / Unter der Erde / In einer Kugel aus Zement, / Ihre Stärke gleicht / Dem Halm / Im peitschenden Schnee. // Die Öde wird Geschichte. / Termiten schreiben sie / Mit ihren Zangen / In den Sand. // Und nicht erforscht wird werden / Ein Geschlecht, / Eifrig bemüht, / Sich zu vernichten [Huchel 1963b: 157] («Выйдет ли человек / Из семени человека / И вырастет ли оливковое дерево / Из семени оливкового дерева, / Это все можно измерить / Поспешностью смерти. // Те, кто там живет / Под землей / В бетонной сфере / Их безопасность не больше / Чем у былинки / Под снежной вьюгой. // Пустыня станет историей. / Термиты впишут ее / Своими челюстями / В песок. // И некому будет запомнить / Этот род, / Так тщательно занятый / Собственным уничтожением» [Куприянов]).
Помимо того что поэт расширил свое стихотворение за счет дополнительных трех строф, он привнес в него и дополнительный смысл. В «Псалме» апокалипсическое настроение находится на высшей точке. Впервые стихотворение под названием «Псалом» появилось в сборнике «Шоссе». Название стихотворения выбрано не случайно, так как в самом тексте можно найти черты библейских псалмов. К ним относятся, во-первых, характерные черты стихотворения-жалобы и использование библейских топосов и образов (оливковое дерево, стебель и т. д.), структура безрифменного стиха, parallelismus membrorum. Однако лирический герой не обращается к конкретной духовной инстанции, это некоторого рода саморефлексия, что необычно для псалмов, в которых всегда подразумевается обращение к Богу.
Во-вторых, в стихотворении используется мотив из книги Бытия [Быт 1: 11–12] о сотворении мира. Но если в Библии Бог говорит о том, что из каждого семени по роду своему произрастет дерево, приносящее плод, то в стихотворении семя остается бесплодным. В первой строфе лирический герой рисует конец света, оборванный круг жизни. Выжить не может никто, единственные, кому это под силу, – это термиты. Будущая история сравнивается с пустыней. Термиты напишут историю на песке, что символизирует собой тщетность человеческих усилий и подтверждает закат мира, его исчезновение. Последняя строфа констатирует, что на человеческом языке история не может быть ни исследована, ни написана. Человечеству не дается второго шанса, оно уничтожает самого себя [Vieregg 1976: 41]. Псалом уподобляется пророчеству.
Если обратиться к первому изданию стихотворения, которое носило название «Бомба против бомбы», можно предположить, с чем связан такой настрой лирического героя. Становится ясным, что потенциальные жертвы в «Псалме» – это люди, которые беспомощны перед атомным вооружением. Схожая тема поднята Хухелем и в другом стихотворении – «Глухим ушам родов человечества» («An taube Ohren der Gesch-lechter») – как реакция на испытание атомной бомбы в Советском Союзе [Hettche 2009: 203]. Нельзя не заметить связь псалма Хухеля с псалмом П. Целана, опубликованным в 1963 г. (практически в одно время с псалмом Хухеля), в котором также речь идет об исчезновении людей, об отрицании всего, что создано Богом (см.: [Горбунова 2014: 168–175]). Однако в стихотворении Хухеля нет даже надежды на спасение.
Еще одно стихотворение, носящее название «Зимний псалом», также пронизано холодом и пессимизмом. Впервые стихотворение появилось в 1962 г. в журнале «Зинн унд форм» («Sinn und Form») [Huchel 1962: 870]. Журнал был основан в 1949 г., а год его закрытия как раз пришелся на 1962 г. Редактором журнала был сам Хухель, который с его помощью старался перекинуть мост между востоком и западом. Положение Хухеля к началу 60-х гг. было неустойчивым, поэтому в конце 1962 г. вышел последний номер. В нем Хухель опубликовал «Зимний псалом», речь Жан-Поля Сартра и Арагона, а также речь Брехта («Rede über die Widerstandkraft der Vernunft») [Brecht 1962: 663]. Хухель стал политически неблагонадежным и не мог больше печататься в ГДР. В 1963 г. во Франкфурте на Майне в сборнике «Шоссе» снова появляется «Зимний псалом».
Стихотворение посвящено Гансу Майеру, немецкому юристу, литературоведу и социологу. Псалом состоит из трех строф разной длины, написанных свободным стихом без рифмы, и носит монологический характер. Важную роль в нем играет звукопись: аллитерации и ассонансы (Fluß, Flüstern, Flamme; Strasse, erstarrten, Stieß, Staub; zeigen, Zeuge). Первый абзац намного длиннее остальных и может быть поделен на части. В каждой из частей звучит свой голос. В первой части слышен голос лирического героя: (1–8: «Da ich ging bei träger Kälte des Himmels / Und ging hinab die Straße zum Fluß, /Sah ich die Mulde im Schnee, / Wo nachts der Wind / Mit flacher Schulter gelegen. /Seine gebrechliche Stimme, / In den erstarrten Ästen oben, /Stieß sich am Trugbild weißer Luft» [Huchel 1984a: 154–155]), затем голос ветра (9–12: «Alles Verscharrte blickt mich an. / Soll ich es heben aus dem Staub / Und zeigen dem Richter? Ich schweige. / Ich will nicht Zeuge sein» [там же]) и снова лирического героя (13–14: Sein Flüstern erlosch, /Von kei-ner Flamme genährt» [ibid.]).
Несмотря на то что у лирического героя нет говорящего с ним партнера, предполагается, что человек ведет диалог со своей душой. Анализируя свое стихотворение, Хухель объясняет, почему стихотворение называется «Зимний псалом»: «Die Stimme des Windes evoziert die Gegen-strophe, vier Zeilen eines Psalms. Anruf in einer er-starrten, beklemmenden Landschaft» [Huchel 1984b: 310] («Голос ветра вызывает ответ, четыре строки псалма. Зов в застывшем, холодящем душу пейзаже»). Если внимательно прочитать вторую часть стихотворения, то можно прийти к выводу, что именно она и является псалмом. Используемые здесь образы отсылают нас к языку псалмов («страх», «душа», «ночь», «свет»). Еще один аспект, формально указывающий на псалом, – это то, что первые две строчки стиха образуют parallelismus membrorum. Обращаясь к Богу в трудной жизненной ситуации, человек посредством молитвы преодолевает свое одиночество, но у Хухеля лирический герой остается абсолютно одиноким. Это взывание к Богу не обещает ему ни надежды, ни веры.
Название псалма объясняет и сам ландшафт. Лирический герой изображен в холодном зимнем окружении. Малую надежду читателю дает появившийся свет (18-я строка) и поставленный в конце вопрос. За голосом лирического героя скрывается голос самого автора в период его изоляции. Таким образом, холодный зимний пейзаж отражает его собственное социальное и политическое положение. Главный образ псалма – ветер, у которого есть плечи, голос, он лежит в лощине. Его голос вводит важную тему: свидетельства, к тому же в псалме используется слово
«судья». Попытка свидетельствования терпит неудачу: «Я не хочу быть свидетелем» («Ich will nicht Zeuge sein»). Этот жест отказа указывает на слабость лирического героя [Lermen und Loewen 1987: 135]. Молчание ветра изображено с помощью природных изменений: не ветер подпитывает огонь (пламя), но пламя в состоянии заставить ветер говорить, огонь может заставить его звенеть [Mayer 1966: 99].
Последняя строфа возвращает нас к первой: дорога ведет к ручью, мимо лощины через мост. Земля покрыта снегом и льдом, небо и река – свинцово-серые. Дословное повторение 1-й и 20-й строчек акцентирует внимание на том, что ничего не изменилось и путник все так же одинок. Состояние лирического героя, стоящего на мосту, отсылает к знаменитой картине Э. Мунка «Крик». В стихотворении присутствует страх, сомнение, апокалипсическое чувство. Тем не менее кажется, что надежда на спасение есть. Поэт вводит образ камыша, который словно дышит, т. е. говорит. Обозначал ли Хухель тем самым, что его дни еще не сочтены, что он как поэт еще поднимет свой голос. Открытый вопрос, которым заканчивается стихотворение, оставляет проблеск надежды.
Лучшее понимание «Зимнего псалма» дает стихотворение «В саду Теофраста» [Huchel 1963a: 155], появившееся в сборнике «Шоссе». Упомянутый в названии Теофраст – скорее всего Теофраст из Эреса, который был греческим философом и естествоиспытателем. К тому же он был учеником Аристотеля, который после смерти учителя встал во главе «школы в саду», где встречался со своими учениками. В своем завещании он отдал сад ученикам, чтобы они обращались с ним, как со святыней, и использовали его в мире и согласии друг с другом.
Первое издание стихотворения вышло с посвящением «Для моего сына Стефана». Оно, как и «Зимний псалом», было опубликовано в журнале «Зинн унд форм» в 1962 г. Это стихотворение также исходит из концепции диалога, правда, здесь партнером по разговору является человек, а именно сын лирического героя. Так же, как и в «Псалме», здесь обсуждается тема, завуалированно отсылающая нас к брехтовскому стихотворению «К потомкам». Оба текста говорят о беззащитности человеческого существования, об удушающей авторитарной власти режима [Ler-men, Loewen 1987: 131–132]. Если в «Зимнем псалме» Хухель изображает полностью оледеневший человеческий мир, то «В саду Теофраста» звучит голос поэта, не теряющего последнюю надежду, потому что он обращен к сыну и через него – к будущим поколениям.
Таким образом, П. Хухель трансформирует библейский жанр псалма на содержательном уровне. Первым приводится в пример ранний псалом П. Хухеля, в котором чётко прослеживаются женские библейские образы; псалом представляет собой воспевание женских добродетелей: милосердия, доброты. Второй псалом относится к «политическим псалмам», он пронизан депрессивным и мрачным настроением и несет предзнаменование тотального уничтожения всего. Псалом написан как реакция на испытание ядерного оружия в 60 гг. ХХ в. Третий анализируемый псалом относится к жанру социального псалма, так как в нем изображается лирический герой, покинутый всеми, находящийся в изоляции, что непосредственно отражает мироощущение поэта на данном этапе его жизни.
П. Хухель изменяет жанр и на формальном уровне. По сравнению с традиционными структурными компонентами жанра у Хухеля появляются такие изменения, как деление лирического текста на строфы, отказ от нумерации строк, использование большого количества средств художественной выразительности, характерных как для немецкой натурмагической поэзии середины ХХ в., так и для идиостиля Хухеля: им широко используются персонификация природы, метафоры «холода», «пустоты», «одиночества», а также библейские аллюзии наряду с языческими мотивами.
Postgraduate Student in the Department of Theory and Practice of Translation
Togliatti State University
Список литературы Псалмы П. Хухеля: трансформация библейского жанра
- Андреюшкина Т. Н. Пейзажная лирика П. Хухеля//Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики (18-21 апр. 2013 г.). Тольятти, 2013. С. 3-14
- Горбунова Е. А. «И они не славили Бога...»: трансформаця библейских псалмов в сборнике «Ничейная роза» П. Целана//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 4(28). С. 168-175
- Куприянов В. Псалом. URL: http://www.poezia. ru/works/90804 (дата обращения: 22.08.2016)
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. 1993. URL: http://www.philosophy2.ru/library/heideg/humanism. html (дата обращения: 22.08.2016)
- Althaus Th. Poetischer Konzeptualismus. Ode von Klopstock bis Holderlin//Holderlin-Jahrbuch. 20002001. Bd. 32. Eggingen: Isele. 2002. S. 246-280
- Bach I., Galle H. Deutsche Psalmendichtung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Berlin; New York: De Gruyter, 1989. 461 S
- Brecht B. Rede iber die Widerstandskraft der Vernunft//Sinn und Form, 14 Jahr, 1962, 5. und 6. Heft. S. 663-666
- Burdorf D. An die Sonne. Hymnische Dichtun-gen von der Zeit Holderlins bis zur Gegenwart//Holderlin-Jahrbuch. 2000-2001. Bd. 32. Eggingen: Isele. 2002. S. 238-245
- Conterno Ch. Die andere Tradition. V & R uni-press in Gottingen. 2014. 355 S
- Ehgartner R. Gelobt seist du, Niemand. Psalmen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Dissertation: Salzburg, 1995
- Hettche W. Die erste Fassung von Peter Huchels Psalm. Eine Wiederentdeckung//Euphorion, 2, 2009. S.199-206
- Huchel P. Gesammelte Werke, Bd. 1, Frankfurt a.M.: Fischer, 1963a
- Huchel P. Bombe gegen Bombe//Rote Revue. Sozialistische Monatsschrift. 1963b. 4. S. 124
- Huchel P. Gesammelte Werk, Bd. 1, hg. von Axel Vieregg. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984а
- Huchel P. Selbstinterpretation des Gedichts: Winterpsalm//Gesammelte Werke Bd. 2, hg. von Axel Vieregg, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984b. S. 309-311
- Huchel P. Winterpsalm//Sinn und Form, 14 Jahr 1962, 5. und 6. Heft. S. 870
- Hunger H. Lexikon der griechischen und Romi-schen Mythologie mit Hinweisen auf das Fortwirken antiker Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und Musik des Abendlandes bis zur Ge-genwart. Wien: Verlag Brider Hollinek, 1998
- Lermen B., Loewen M. Lyrik aus der DDR: exemplarische Analysen. Paderborn; Minchen; Wien; Zirich: Ferdinand Schoningh, 1987
- Mayer H. Winterpsalm//Hilde Domin, Dop-pelinterpretationen. Frankfurt a. M.; Bonn: Athenaum Verlag, 1966. S. 98-100
- Siemes Ch. Das Testament gestirzter Tannen. Das lyrische Werke Peter Huchels. Freiburg i. Br.: Rombach, 1996
- Tripp E. Lexikon der antiken Mythologie. Stuttgart: Reclam, 2012
- Vieregg A. Die Lyrik Peter Huchels. Zeichen-sprache und Privatmythologie. Berlin: Eriсh Schmidt Verlag, 1976