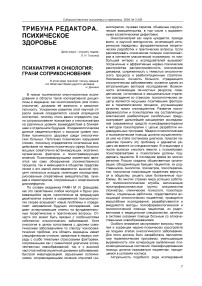Психиатрия и онкология: грани соприкосновения
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 3 (50), 2008 года.
Бесплатный доступ
ID: 14295275 Короткий адрес: https://sciup.org/14295275
Текст ред. заметки Психиатрия и онкология: грани соприкосновения
В этом мире приносит пользу каждый, кто облегчает бремя другого человека.
Ч. Диккенс
В новом тысячелетии многочисленные исследования в области такой кооперативной дисциплины в медицине, как онкопсихиатрия (или психоонкология), доказали её важность и самостоятельность. Ускоренное развитие этой научной отрасли знаний определяется «зоной искрящихся контактов», поэтому столь важно определить грани соприкосновения психиатрии и онкопсихиатрии на различных уровнях взаимодействия в ближайшем и отдаленном будущем. Эпидемиологические данные свидетельствуют о высоком уровне проблем психического здоровья среди онкологических больных. Патогенез психических нарушений сложен, поскольку определяется сочетанным воздействием на нервно-психическую сферу больных мощных соматогенно-астенизирующих, экзогенноорганических факторов и психотравмирующих влияний. Психотравмирующими моментами являются как само обнаружение злокачественного процесса, так и имеющиеся в обществе представления о его малой излечиваемости, высокий процент летальных исходов, калечащие последствия, рискованные оперативные вмешательства, лучевая и химиотерапия, сопряжённые с соматическим дискомфортом.
По словам академика РАМН М. И. Давыдова, как это свойственно любой молодой и бурно развивающейся науке, накопленные за предыдущие десятилетия знания в современной психоонкологии скорее вскрывают новые проблемы и определяют направления будущих исследований, чем дают исчерпывающие ответы на фундаментальные теоретические и практические вопросы. Отчасти это может быть связано с особенностями собственно онкологических заболеваний. Хотя онкология в целом сопоставима с другими соматическими заболеваниями по спектру психосоматических проблем, эта область медицины имеет специфические отличия, связанные в первую очередь с особо тяжелыми стрессовыми факторами, сопряженными как с семантикой диагнозов злокачественных новообразований, так и с высокой частотой неблагоприятной динамики заболевания, быстрой инвалидизацией, серьезными осложнениями, сопровождающими лечение опухолей (хи- миотерапия, лучевая терапия, обширные хирургические вмешательства, в том числе с выраженными косметическими дефектами).
Онкопсихиатрия как наука нуждается, прежде всего, в научной методологии, сочетающей исторические парадигмы, фундаментальные теоретические разработки и практические вопросы. Если рассматривать клинические позиции онкопсихиатрии в контексте классической психиатрии, то наибольший интерес у исследователей вызывают пограничные и аффективные нервно-психические расстройства: распространенность, клиническая динамика, сопряженность с тяжестью онкологического процесса и реабилитационные стратегии. Несомненно, личность больного, страдающего онкологическим заболеваниям, остается одним из актуальнейших векторов исследования. Возможности активизации личностных ресурсов, поведенческие, когнитивные и эмоциональные стратегии совладания со стрессом, психологические защиты являются мощными позитивными факторами в терапевтическом процессе, улучшающими качество жизни онкопациентов. Развитие психофармакологии и психотерапии как составляющих комплексной реабилитации онкобольных предусматривает дальнейшее расширение исследований современных средств психофармакотерапии и методов психотерапии с целью разработки индивидуальных программ. Медико-психологическая и психиатрическая помощь должна осуществляться уже на этапе постановки диагноза, помогая пациентам принять эту проблему и адекватно решать ее вместе со специалистами. В стационаре и после выписки онкологи вместе с психиатрами, психотерапевтами и психологами должны поддержать пациента. В последнее время во многих регионах России созданы общественные организации, объединяющие бывших пациентов, их родственников, онкологов, психиатров, психотерапевтов, психологов помогающие пациентам вернуться в общество, решить свои болезненные проблемы. Во многих странах мира успешно работают психоонкологические службы, включающие полипрофессиональные группы специалистов (психиатры, клинические психологи, психотерапевты, социальные работники, представители ассоциаций онкологических пациентов), проводятся масштабные исследования, разрабатываются и внедряются методы психофармакологической и психологической помощи пациентам, их родственникам и медицинским специалистам, занятым в системе оказания помощи больным со злокачественными новообразованиями.
Особого внимания заслуживают вопросы терапии и коррекции нервно-психических расстройств на поздних этапах онкологического заболевания. Для этого должны быть разработаны паллиативные терапевтические программы, уменьшающие выраженность или купирующие выявленные психоэмоциональные состояния. Квалифицированная помощь должна оказываться пациентам, находящимся в условиях хосписа.
Актуальность подобного рода исследований явилась поводом для серьезного обсуждения в рамках Международной конференции по психоонкологии «Культура, мозг, тело» с участием московских академических подразделений, а также институтов психического здоровья и онкологии Томского научного центра СО РАМН. Тезисы докладов участников форума представлены в одноименной рубрике «Сибирского вестника».
Современные парадигмы психоонкологии и онкопсихиатрии приводят нас к выводу о патогенной значимости существенного напряжения эндогенной и экзогенной экологической обстановки: скорость технологического преобразования общества в значительной степени превышает адаптационные возможности конкретного индивида, а это, в свою очередь, чревато затратами здоровья, болезненной ломкой физиологических и биологических механизмов приспособления. Масштабы неблагоприятного воздействия производства на окружающую среду достигли в настоящее время катастрофических размеров: свыше 300 ареалов страны отличаются сложной экологической обстановкой, вызывающей перенапряжение и даже полом адаптационных свойств организма (Казначеев В. П., 1988). Результатами таких экологических воздействий являются негативные сдвиги демографических процессов, увеличение интенсивности миграции, деформация структуры семьи.
Состояние здоровья есть важнейший индикатор экологического риска индустриальных регионов, его оценка, прогноз тенденций изменения здоровья должны стать непременным условием в процессе разработки проблем первичного предупреждения и коррекции патологических процессов человека и его потомства. Социальноэкономические и климатогеографические условия восточного региона России являются существенными факторами, во многом влияющими на показатели психического здоровья и психической патологии. Промышленное освоение обширнейших сибирских и дальневосточных территорий сопряжено с необходимостью трудовой деятельности в субэкстремальных и экстремальных природных условиях. Различные экзогенные вредности малой и средней интенсивности ведут к дестабилизации функционирования человеческого организма, которое проявляется на донозологическом уровне в неспецифических экстранозологических реакциях психической адаптации - дезадаптации.
Изучение работ, отражающих результаты исследований нервно-психических расстройств у онкологических больных, позволяет сделать предположение мультифакториальной природе этих нарушений. В их формировании принимают участие, как минимум, две группы факторов: соматическое состояние на момент возникновения онкологического заболевания, включая и его последующие изменения, обусловленные как самим патологическим процессом, так и лечением, и чрезвычайное по силе и продолжительности действия психотравмируюшее влияние данной патологии и ее социально-психологических последствий на личность больного. В отдельных работах прослеживается стремление изучить третий фактор – саму личность больного и ее изменения в связи с онкологическим заболеванием.
Не умаляя значения данных исследований, подчеркнем лишь, что все они страдают односторонностью, т. е. изучение того или иного фактора происходит в них в ущерб изучению остальных. На наш взгляд, в обоих случаях совершается одна и та же методологическая ошибка; исключая из целостного, комплексного рассмотрения проблемы какую-либо ее сторону, мы отдаляемся тем самым от цели и исследования – приблизиться к пониманию патогенеза нервно-психических нарушений у онкологических больных, которые являются лишь частью общего болезненного процесса. По нашему мнению, наиболее адекватной методологической основой для этого является системный подход, позволяющий рассмотреть все участвующие в формировании нервно-психических расстройств факторы в их взаимосвязи и взаимодействии.
Нами на основе клинико-психопатологического, клинико-динамического и клинико-катамнести-ческого методов было обследовано две группы больных: 1-я, состоящая из 43 больных (в том числе 34 женщины и 9 мужчин) с канцерофобическим синдромом в рамках различных пограничных нозологических форм, и 2-я – из 128 человек со злокачественными и 22 с доброкачественными опухолями головы экстракраниальной локализации и шеи. В число этих 150 больных входило 117 мужчин и 33 женщины. Средний возраст обследованных 1-й группы 34±1,6 года, а 2-й – 46±1,5 года.
Поскольку одним из основных методов в системных исследованиях является метод моделирования, мы в своей работе использовали специально созданную модель психосоматических соотношений. Коротко, суть ее заключается в следующем: сознавая целостный и комплексный характер процессов адаптации, лежащих в основе рассматриваемого заболевания, мы выделяем три ее уровня – биологический (соматический), конституционально-типологический (личностный) и уровень психологической адаптации . При этом на этапе анализа были выделены пары синдромообразующих факторов, взаимодействующих друг с другом на каждом из указанных уровней в соответствии с законом единства и борьбы противоположностей. На уровне соматической адаптации мы выделили соматогенно-органический фактор и парный ему фактор «соматические ресурсы адаптации», при этом первый условно считали патогенетическим, а второй – саногенетическим. На личностном уровне такими факторами стали соответственно конституционально-типологический и фактор «внутренние ресурсы адаптации», а на уровне психологической адаптации – психосоциогенный фактор и фактор «внешние ресурсы адаптации».
Динамический характер нашей модели придают понятия «сенсибилизация» и «десенсибилизация». Первый предполагает преобладание того или иного патогенетического фактора над парным ему саногенетическим, а второй - преобладание последнего над первым. В целом модель функционирует таким образом, что позволяет в каждый данный момент любого заболевания (соматогенного или психогенного) рассматривать синдром как слагаемое, результирующее образование от взаимодействия шести синдромообразующих факторов. Даже преобладание какого-то одного типа «сенсибилизации» (например, психогенного при неврозе) не может ни изменить в силу целостного характера адаптации индивида исходного соотношения пато- и саногенетических факторов на других уровнях адаптации.
Практическое значение описанной модели становится очевидным при расшифровке терминов, которыми мы обозначили синдромообразующие факторы. Соматогенно-органический фактор включает в себя не только определенное количество экзогенной вредности, являющейся следствием как самого онкологического заболевания и его лечения, так и всего предшествующего анамнеза - травм, интоксикации, нейроинфекции, тяжелых соматических заболеваний и т. п., но и особенности общей реактивности организма, производные от указанной вредности. Конституционально-типологический фактор подразумевает предуготованность к реактивно-личностному реагированию того или иного типа и уровня в зависимости от врожденных или приобретенных качественных (тормозимые, возбудимые, истерические и др.) и количественных (акцентуация, психопатия, патологическое развитие вследствие экзогенноорганической или психогенной вредности) особенностей индивидуума. Психосоциогенный фактор отражает как количественную сторону психотравмирующего воздействия данного заболевания (к ней могут быть присоединены и не изжитые на момент возникновения заболевания психотравмирующие воздействия, обусловленные экстрамор-бидными причинами), так и качественную его сторону, зависимую от многих причин (например, косметический дефект лица является несравненно более значимым для молодой девушки, чем для пожилого мужчины, т. е. здесь приобретает смысл не только абсолютное психотравмирующее значение онкологического заболевания для человека, но и конкретное значение его для индивида в зависимости от пола, возраста, семейного положения и взаимоотношений в семье, социального статуса и т. д.).
Под соматическими ресурсами адаптации мы подразумеваем способность организма сохранять некий оптимальный уровень реактивности и неспецифической резистентности организма, позволяющий адаптироваться к заболеванию, выработать компенсаторные механизмы и обеспечить тем самым новый оптимальный уровень жизнедеятельности. Внутренние ресурсы адаптации отражают актуальное состояние нервнопсихической реактивности человека (во многом являющейся производной от общей реактивности организма), обусловливающее своеобразный «порог чувствительности» к психотравмирующим воздействиям, способность противостоять им и конструктивно разрешать возникающие жизненные трудности. Внешние ресурсы адаптации включают в себя известное многообразие и устойчивость мотивационной сферы личности, речь идет о наличии в окружающей ее действительности ценностей более значимых, чем состояние здоровья, о готовности ее действовать, сообразуясь с такой системой ценностей.
Практическая реализация этих воззрений осуществлена при анализе клинических групп. Нозологическая структура в 1-й группе больных была представлена в 28 случаях (65,1 %) неврозами (в 16 истерическим, в 7 неврозом навязчивых состояний, в 5 неврастенией), в 7 (16,3 %) психопатией (в 4 истерического, в 3 тормозимого круга) и в 8 случаях (18,6%) неврозоподобным состоянием органического (в 4) и соматогенного (в 4) генеза. Несмотря на широкий нозологический спектр, синдромологически они были очерчены достаточно однородно и включали канцерофобические, аффективные, астенические проявления, обнаруживаемые у всех больных, а также истерические, ипохондрические, сенестопатические, дисморфо-фобические, обсессивные и некоторые другие расстройства, «тропные» к конкретной нозологии. Все они обнаруживали четкую связь с характерологическими радикалами: истерические расстройства были более свойственны личностям истерическим, обсессивные - тормозимым и т. п. Наиболее тесная «спаянность» клинических проявлений с личностными особенностями при этом обнаруживалась у личностей тревожно-мнительных, психастенических; это определяло и стойкость, слабую терапевтическую податливость отмечающихся (преимущественно обсессивно-фобических, тревожно-дистимических) расстройств. Истерические особенности личности в этом отношении прогностически были более благоприятными: повышенная внушаемость и самовнушаемость, свойственные данным личностям, позволяли добиться быстрого психотерапевтического эффекта.
При анализе синдромогенеза с использованием нашей концептуальной модели выявилась еще более выраженная однородность расстройств в этой группе больных: синдромообразование происходило при взаимодействии двух патогенетических факторов - психосоциогенного (он приобретал большее значение в подгруппе лиц с неврозами) и конституционально-типологического (был более выражен в подгруппах психопатий и неврозоподобных состояний). Ведущее значение этого взаимодействия в патогенезе расстройства подтверждается психогенным «запуском» заболевания (оно возникало вслед за получением известия о чьем-нибудь онкологическом заболевании или смерти от него), наличием психотравмирующего события в клинике его (отсюда и канцерофобическая фабула расстройства). Взаимодействие психогенной и личностной «сенсибилизации» определило и своеобразную внутреннюю картину болезни (гипертрофированный вариант). Она складывалась из преувеличенной оценки тя- жести своего состояния, пессимистической оценки будущего, неадекватного отношения к предлагаемому лечению с частым навязыванием собственного плана обследования и лечения; фиксированности на своем состоянии. Соматический фактор также принимал участие в оформлении клинической картины расстройства, но играл подчиненную, патопластическую роль. Это выражалось в своеобразии вегетативных, психосоматических и сенестопатических проявлений, которые приобретали значимое место во внутренней картине болезни (ВКБ), «питали» канцерофобическую фабулу данного расстройства.
В 18,6 % случаев (при неврозоподобных состояниях) значение соматогенно-органического фактора в синдромогенезе возрастало, а взаимодействие его с двумя другими усложнялось: ведущими синдромообразующими факторами здесь выступали «сенсибилизированные» соматогенноорганический и личностный, а психосоциогенный играл роль второстепенную - проявляющую или разрешающую (сохраняя также роль «поставщика» фабулы расстройства).
Зависимость клинической картины нервнопсихических расстройств от исходного соотношения синдромообразующих факторов особенно наглядно прослеживалась в динамике (продолжительность катамнеза от 0,5 до 3,5 года, в среднем 1,5 года). При этом выраженность клинических проявлений в невротической подгруппе находилась в прямой связи с актуальной психотравмирующей ситуацией и имела тенденцию к уменьшению при ее дезактуализации. В подгруппе психопатий отмечались более выраженная тенденция к затяжному течению с наклонностью к развитию, более частые рецидивы, зависящие не только от содержания психотравмирующей ситуации, но и от любых социально-психологических воздействий. При неблагоприятной динамике канцерофобические проявления «обрастали» другими нарушениями, порой более глубокого регистра (сенестоипохондрическими, паранойяльными и др.). Утяжелялись и свойственные этим больным патохарактерологические нарушения с частым формированием госпитализма. В том числе там, где в качестве ведущей выступала связь соматогенно-органического с личностным фактором, динамика болезненного состояния находилась в прямой зависимости от выраженности этой «сенсибилизации» и ее колебаний. Последние обнаруживали не столько тропность к социальнопсихологическим влияниям, сколько зависимость от метеорологических и других физических факторов, сезонности, каких-либо дополнительных экзогенных вредностей. Соответственно и усложнение синдромологической структуры происходило за счет присоединения симптомов, свойственных экзогенно-органическим расстройствам (например, просоночные, пароксизмальные, цереб-растенические стигмы).
Во 2-й группе больных чаще всего (66,2 %) выявлялись неврозоподобные расстройства, в 28,1 % наблюдений констатировалась своеобраз- ная «анозогнозия» и в 5,7 % отмечались такие формы реакции на заболевание, которые мы определили как психопатоподобные. Клиническая картина выявленных нервно-психических расстройств, в отличие от 1-й группы, характеризовалась незавершенностью, выраженной атипией, полиморфизмом проявлений, отсутствием чувства болезненности. С известной долей условности они квалифицировались как тревожные, субдепрессивные, астенические, истериформные и т. д. Несоответствие степени выраженности этих нарушений вызвавшей их причине послужило основанием для констатации своеобразной «депсихо-патизации» и «деневротизации». Они были наиболее выражены в первые дни после выявления заболевания, в момент поступления в онкологический стационар и при подготовке к операции, т. е. в периоды максимальной нервно-психической напряженности. Очень характерно, что именно в эти периоды они как бы утрачивали личностную окрашенность, индивидуальную нюансировку и приобретали некий универсальный, общий характер, практически не зависимый от личностных особенностей больных.
ВКБ была более редуцированной ив то же время более адекватной: больные недооценивали тяжесть своего состояния, с оптимизмом думали о будущем (даже зная свой диагноз), без особой критики относились к любому предлагаемому лечению; значительно реже у них наблюдалась трезвая, вполне адекватная оценка ситуации в целом. Все нарушения, на наш взгляд, носят вторичный и неспецифический характер, особенно на ранних стадиях заболевания, и являются лишь отражением тех глубинных и мощных процессов, которые происходят в соматической сфере. Определяющим здесь является такой патогенетический фактор, как соматогенный, причем результат взаимодействия его с группой саногенетических факторов явно склоняется в пользу процессов «десенсибилизации». Это и определяет в силу чрезвычайной выраженности данной неспецифической реакции всего организма и процессы в сфере психической - атипичность, рудимен-тарность и склонность к саморедукции возникающих нервно-психических нарушений, своеобразные реакции «анозогнозии», «депсихопатизации» и«деневротизации».
Прослеженная нами динамика (средняя продолжительность катамнеза 2 года) полностью подтверждает факт доминирования соматогенного фактора над двумя другими патогенетическими факторами в процессе синдромокинеза, хотя соотношение их несколько отличается от такового в остром периоде. Так, в наиболее благоприятных случаях (доброкачественные опухоли, включая патологию щитовидной железы, не сопровождающуюся гормональными расстройствами; ранние стадии злокачественных опухолей, потребовавшие оперативного лечения в щадящем объеме) личность больных оставалась практически интактной и (в случае, если она не была исходно аномальной) происходило полное выздоровление с восстановлением исходного социального статуса. Такие больные (около 30 %) уже через несколько недель после выписки приступали к труду, справлялись с большим объемом нагрузок и сколько-нибудь существенных изменений как общей, так и нервно-психической реактивности у них не обнаруживалось. В менее благоприятных случаях (например, при исчезновении или продолжительном нарушении вследствие лечения таких функций, как звучная речь, самостоятельное жевание, глотание и т. п.) происходила утрата или снижение прежнего социально-трудового и семейного статусов больных, переживаемые по-разному в зависимости от разных факторов (в том числе и личностных особенностей, пола, возраста больных и т. п.). Чаще всего это проявлялось реактивно-личностными образованиями, синдромологически оформленными как атипичная депрессия с непостоянным включением астеноипохонд-рических, истериформных, обсессивных, дисмор-фофобических включений, носящих еще отпечаток преморбидной личностной структуры. Иными словами, здесь при определяющем соматогенном факторе несколько возрастало значение двух других патогенетических факторов. Доминирование соматогенного фактора определяло те же самые особенности нервно-психических расстройств в этой подгруппе, что и в остром периоде (т. е. ати-пию, неразвернутость и т. д.). Отсутствие чувства болезненности при этом было, вероятно, главной причиной крайне редкого самостоятельного обращения таких больных за помощью к психиатру. В течение первых же месяцев после возникновения заболевания начинали проявляться и своеобразные изменения личности в виде тенденции к самоизоляции, аутизму, утрате прежних ценностей, обеднению всего душевного строя с одновременной концентрацией всех сил и устремлений вокруг собственного здоровья. Собственно органические изменения при этом были зачастую еще очень мало выражены и проявлялись в основном впервые возникшими расстройствами по типу нажитой невропатии со своеобразными соматическими реакциями (с психогенным, метео-или физиогенным «запуском»). Иначе говоря, налицо было изменение как общей, так и нервнопсихической реактивности, носившее достаточно универсальный характер для всех больных с таким течением онкологического заболевания независимо от их преморбидной личностной структуры и даже исходной степени аномалии личности. Здесь уместно было бы говорить о своеобразном патологическом развитии личности вследствие онкологической патологии. В наименее благоприятных случаях (невозможность или безуспешность лечения, быстрое прогрессирование процесса с нарастающим ухудшением общего состояния) на смену проявлениям «острого» периода приходила выраженная и быстро прогрессирующая органическая астения, на фоне которой в ускоренном и укороченном варианте формировались упоминавшееся уже патологическое развитие личности и параллельно с ним органический дефект.
В процессе системного анализа нашего клинического материала получен континуум психосоматических соотношений, в котором на одном полюсе ведущим патогенетическим фактором выступает психогенный (неврозы), а на другом - соматогенный (сами злокачественные новообразования). Промежуточное положение занимают неоднородные переходные формы, при которых иерархии синдромообразующих факторов и их взаимоотношения друг с другом и с саногенетическими факторами становятся более сложными и неоднозначными, ведущим же становится видоизмененный «сенсибилизированный» личностный фактор. Используемая при этом модель психосоматических соотношений позволяет проследить как формирование структуры нервно-психических нарушений (синдромогенез), так и их динамику (синдромоки-нез), что в практическом применении может явиться полезным в диагностике и оценке прогноза, а также назначении патогенетически обоснованной терапии пограничных нервно-психических расстройств в онкологической практике.
В качестве продуктивной точки зрения на сближение позиций, интеграцию идей и знаний в области целительства тяжелой соматопсихиче-ской патологии (в том числе психоонкологической), совершенствования общественного и индивидуального здоровья людей нами разрабатывается Евразийский проект сближения этнопсихологических и этнопсихотерапевтических позиций Запада и Востока. На практике речь идет о поиске путей синтеза используемых каждой из рассматриваемых культур методов избавления от человеческих недугов, психологических зависимостей, преодоления интерперсональных и интраперсо-нальных конфликтов, личностных девиаций. Складывается впечатление, что области религии и психотерапии подчеркивают различия там, где собственно присутствует единство: « обе ищут своими путями разгадки мистерии, каковой является человек » (Кронан К., 1992). Естественно, их отождествление возможно, когда психотерапевты напрямую заимствуют христианские или восточные «техники», заодно превращая лечение в «обращение». Обмен знаниями, концепциями, научными и культурными достижениями Запада и Востока облегчается выраженной нивелировкой «чистоты» религиозных, культурологических и естественно-научных воззрений.
Исторически западная наука всегда стремилась к максимальной объективности исследований, дистанцированию ученого от изучаемого объекта, поскольку «наблюдение за миром есть в нем участие», вследствие чего «модели мира всё более удаляются от представлений здравого смысла» (Уоттс А., 1997). В качестве выбора жизненной позиции преодоления тяжелого соматического недуга предлагается «лекарство от Шопенгауэра» (Ялом И., 2007): «Наслаждаться настоящим и обратить это в цель своей жизни – величайшая мудрость, так как она одна реальна, всё же остальное – игра воображения». Она помогает достичь пациенту в самый критический период своего жизненного пути полнокровного, оптимистичного и самодостаточного уровня, не гоняться за «чужой любовью», а искать соразме-ренность и равновесие души и тела, цель и смысл жизни внутри самого себя. Феноменология психических расстройств при онкопатологии должна учитывать психологические механизмы личностного реагирования, смысл которого разыгрывается на «поле боя», образующего тонкие движения эмоций и поведения. Адепты восточных учений, напротив, начинают познавать в науке крайнюю точку зрения западного материализма, используя его при построении теоретических и философских конструкций; таким образом, вовсе необязательно «разрушать человеческий образ» (Н. Бердяев). Следствием сказанного является призыв к личности, к индивиду глубже узнавать себя, совершенствовать самопознание в духе древнего дельфийского изречения: «Познай Вселенную и богов, и ты познаешь самого себя». Применяемые универсальные психотерапевтические техники восточных целителй направлены на душевное выздоровление и просветление, достижение спокойной и уравновешенной жизни, смягчение или искоренение психосоматических конфликтов, устранение трех главных причин душевного страдания (желания, отвращения, невежества). Излюбленными методами такого «внутреннего постижения истины» являются четыре позиции Будды: жизнь есть страдание; страдание имеет свою причину в привязанностях (к вещам, идеям, другим людям, к самой жизни); страдание можно устранить, прекратив испытывать желания и отказавшись от привязанностей; существует особый восьмеричный путь к освобождению от страданий. Как видно, есть только один единственный способ личностного преобразования - через самоотречение, жертвенность, самоограничение.
Сопоставление транскультуральных приемов и подходов в области общей персонологии и психотерапии подводит нас к установлению близости позиций при изучении здоровой и больной личности, при определении границ нормы и патологии, оценке личностной структуры с учетом конкретных экспериментальных данных, сближении межличностных и внутриличностных аспектов, усовершенствовании коммуникативных приемов, анализе сознательных и бессознательных механизмов, использовании архетипической и модернистской методологии). В социально-психологическом плане усилия двух современных культур должны быть направлены на ассимиляцию знаний по формированию человека будущего, человека поэтического, опирающегося в своем развитии на изначальную, извечную идею духовнокосмической универсальности и целостности.
Анализ моделей восточного образа жизни подводит нас к переживанию ощущения его наполненности, пронизанности не столько философскими концепциями и идеями, сколько тонкими, рафинированными психотерапевтическими установками и мастерски отточенными технологиями, позволяющими овладеть надежными приемами самопознания и оккультными способами постижения внешнего мира. Отсюда проистекают различия в целях, задачах, объектах психотерапевтических способов, бытующих на Востоке и Западе: для западного целителя важен аспект изучения измененных состояний сознания у лиц с болезненными формами личностных (невротических, патохарактерологических) девиаций, для восточного - постижение специфики этих состояний у нормальных, «беспроблемных» натур. Современное познание человека позволяет отобразить его целостность, очерченность, структурность. На этом фоне отчетливо выступает науковедческий парадокс: психотерапия как самостоятельная дисциплина еще не имеет ясного контура, понятийной терминологии, общепринятых теоретических воззрений (соединяющих неисчислимые богатства западных и восточных учений). Идея взаимодействия, взаимовлияния и проникновения западных и восточных моделей психотерапевтических и психокоррекционных технологий побуждает к поиску путей совершенствования диагностических, прогностических и превентивных подходов в современной медицине и психологии. Это облегчит взятую на себя психотерапевтом (чисто интуитивно) функцию арбитра в конфликте отдельной личности с весьма «обезличенными» социальными институтами, по-прежнему сохраняющими в рамках своих косных структур непреодолимую тягу к ограничению свободы своих сограждан. Для этого необходимо «отказаться от национального эгоизма, сковывающего её духовные силы» и действовать в соответствии с «духом справедливости и любви».
В последние годы особое значение стала приобретать детская онкопсихиатрия и психотерапия. Её применение в отношении детей, страдающих онкологическими заболеваниями, обосновывается возрастными особенностями переживания болезни и выявлением основного патогенетического механизма психологического реагирования на создаваемую болезнью критическую жизненную ситуацию. С увеличением возраста детей и стажа болезни происходит осознание связи своего заболевания с проблемами жизни, смерти, будущего. С осознанием этой связи и увеличением опыта депривации возрастает вероятность кризисных и психопатологических реакций. Целью психотерапевтической помощи детям, больным онкологическими заболеваниями, являются профилактика и коррекция кризисных и психопатологических реакций, а её непосредственной задачей – преодоление эффектов депривации, психологическая коррекция переживаний, связанных с представлениями о жизни, будущем. Введение в штаты онкологических отделений медицинских психологов, владеющих как диагностическими, так и коррекционными навыками, облегчает превентивную и реабилитационную работу в семьях больных детей, поддерживает душевное здоровье, предотвращая психологический «износ» медицинского персонала клиник.
Главный редактор В. Я. Семке