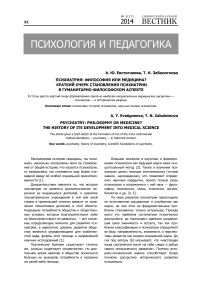Психиатрия: философия или медицина? Краткий очерк становления психиатрии в гуманитарно-философском аспекте
Автор: Евстигнеева Алина Юрьевна, Заболотнова Татьяна Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (17), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье дается краткий очерк формирования одной из наиболее неоднозначных медицинских дисциплин - психиатрии - в историческом разрезе.
Психиатрия, история психиатрии, научные основы психиатрии
Короткий адрес: https://sciup.org/14113964
IDR: 14113964
Текст научной статьи Психиатрия: философия или медицина? Краткий очерк становления психиатрии в гуманитарно-философском аспекте
Рассматривая историю медицины, мы понимаем, насколько неотделимы вехи ее становления от общей истории; что касается психиатрии, то взаимосвязь эта становится еще более очевидной ввиду её особой социальной ориентированности [1].
Доказательством является то, что история психиатрии не является хронологическим перечнем ее выдающихся деятелей, и развитие психиатрических учреждений в той или иной стране в наименьшей степени зависит от появления талантливых деятелей в этой области. Назревшие потребности общества и общественные условия, которые благоприятствуют либо не благоприятствуют ее развитию, — вот основные определяющие моменты для развития психиатрии, а идеология, уровень развития общества являются определяющими для особенностей вида, формы этой помощи и направлений научных исследований [2].
Психические болезни существуют столько же, сколько существует человечество. Но длительное время наличие в обществе психически больных не вызывало потребности в оказании им какой-либо помощи.
Большое значение в изучении и формировании психиатрии как будущей науки имел концептуальный метод [3]. Также в изучении психиатрии ценны позиции эпистемологии (точное знание, науковедение), что позволяет определить научную парадигму, понять тесную связь психиатрии и сопряженных с ней наук — философии, психологии, этики, этиологии, логики, биологии и др. [4, 5].
По мере развития психиатрии происходило ее естественное расширение и углубление как науки, но при этом ее фундаментальные проблемы становились только актуальнее. Прежде всего это проблема систематики психических расстройств, до настоящего времени сохранившая свою значимость и остроту, так как проблемы классификации в психиатрии определяют ее базу, направленность, значимость и перспективы развития как медико-социальной науки. До сих пор авторы [6] указывают, что «настоящая наша систематика носит на себе следы и рубцы своего исторического развития». Поэтому историко-клинический анализ способствует более полному раскрытию исторического развития психиатрии.
В медицине античности, когда психиатрия как самостоятельная наука еще не существовала, проявления душевных заболеваний были уже известны. Изучали их древнегреческие философы и врачи, и уже тогда началась полемика относительно принадлежности и классификации болезней.
Книдская школа являлась продолжателем тенденций вавилонских и египетских врачей (Эфривон, Ктезий и др.). Они были современниками Гиппократа, а Ктезий даже находился с ним в родстве. Именно они выделили комплексы симптомов и описали их как отдельные болезни. Последователи Книда [7] на первый план ставили диагноз болезни и самостоятельность заболевания.
Имя Гиппократа лежит в основе Косской школы. Он критиковал Книдскую школу за ее стремление дробить болезни и ставить разнообразные диагнозы, поскольку самым важным для него было общее состояние больного, позволяющее ставить правильный прогноз.
Именно Гиппократ впервые говорит о связи душевных болезней с заболеваниями мозга. Он и его последователи выделяли две формы помешательства: «меланхолию» (избыток черной желчи) и «манию» (обозначала сумасшествие вообще) [8]. «Френит» обозначал острые болезни на фоне лихорадки. Гиппократ впервые определил такие понятия, как бредовые состояния и в известной степени паралогичность мышления. Но основной заслугой Гиппократа является низведение «священной болезни» — эпилепсии — до уровня обычной болезни, субстратом которой является мозг.
Хотя для философов, медиков и историков античности характерен акцент на острые проявления безумия, они обращали внимание на разные отклонения при душевных заболеваниях.
Пифагор и его школа формировали начала знаний о нормальной душевной деятельности, некоторых отклонениях от нее в виде различных реакций, для лечения которых использовались различные тренировки, воспитание духа, а также метод лечения, при котором возможен «катарсис» (термин Пифагора). Сократ и Демокрит также высказывали свое мнение о природе душевных болезней.
Немаловажными можно считать сочинения Сорана, где определяющим являлась точка зрения учёных, разделяющих болезни на экзальтированные и угнетенные состояния.
Платон рассматривал состояния, позднее отнесенные к психологии и пограничной психиатрии.
Аристотель пытался расшифровать свойства личности, где каждый характер представляет сумму определенных свойств, составляющих основу личности. Характер же у Теофраста — это сумма душевных свойств, проявляющаяся в поступках и словах.
Клавдий Гален продолжал развитие идей Гиппократа [9]. Он также придавал значение гуморальному фактору в происхождении болезней и темперамента. Гален стремился к познанию причинных факторов в болезни — этиологии.
Таким образом, античная философия и медицина постепенно уточняли признаки душевных заболеваний, формируя терминологию, ставшую впоследствии психиатрической лексикой (мания, меланхолия, френит, паранойя, истерия, эпилепсия, ипохондрия, характеры). Специального выделения психических болезней еще не существовало, что определило этот период как препарадигмальный, или донозологи-ческий.
Развитие медицины в эпоху Возрождения и Просвещения в Европе охарактеризовалось созданием первых классификаций («век систем»). В работе Фернеля «Всеобщая медицина» появилась глава «Болезни мозга» [10], где он предпринял попытку соотнести психозы с болезнями мозга. Однако у Фернеля, как и у Галена, не описаны истерия и эпилепсия, а «галлюцинация» подразумевает болезнь глаз.
Систематику Ф. Платера (XVII в.) официально считают первой классификацией психических болезней. Их насчитывают 23 вида, размещенных в четырех классах. Эта классификация отмечает не только диагностику психических расстройств, но и патологию пограничного регистра с клиническими описаниями.
Психиатрия XVII века сохраняет связь с философией, общей медициной, биологией.
Карл Линней в своей книге «Роды болезней» разделил все заболевания на 11 классов, в пятый из которых поместил психические болезни, причем истерию и эпилепсию описал вне рубрики патологии психики, поместив их в класс нарушения моторных функций. Фактически классификация К. Линнея — один из вариантов общей психопатологии, а прогрессом клинической психиатрии в новых систематиках было создание «медицинского языка», доступного «самым разным нациям от полюса до полюса», как сказал Й. П. Франк (1745) [11].
Мировое признание получила первая и, пожалуй, единственная в Великобритании (Шотландии) классификация болезней В. Куллена (1710—1790). Он пытался систематизиро- вать болезни по методу Линнея [12]. Им же был введен в медицину термин «невроз» как общее название для всех психических расстройств. Он отнес неврозы ко второму классу, включавшему в себя 4 отряда, 27 родов и более 100 видов, а также большую группу параноидных болезней [13]. Но в руководстве О. Бумке (1932) утверждается, что нозология В. Куллена подверглась критике со стороны другого классика английской медицины — Т. Арнольда. Он утверждал, что существует только два вида помешательств [14], при одном из которых расстроено восприятие, при другом восприятие нормально, но разум вырабатывает ложные понятия.
Многие историки психиатрии рассматривают такую полемику как начальный этап формирования дихотомии «нозология — единый психоз».
Пинель Ф., основатель научной психиатрии, подводит итог в пользу нозологической систематики, утверждая термин «неврозы» с пониманием ведущей роли нервной системы в происхождении «системных неврозов» (в более позднем понимании) [15]. Он же впервые дал судебно-психиатрическое обоснование для таких больных, утверждая, что их надо помещать не в тюрьму, а в специальную больницу.
В России первой работой, посвященной систематике психозов, являются сочинения И. Е. Дядьковского (1845), который составил оригинальную систематику патологических проявлений, выделив болезни чувств (анестезия), болезни побуждений (эпитимия), болезни ума (синезия), болезни движения (кинезия) и болезни сил (динамия), полагая, что не существует болезней без «материальных изменений» в каком-либо органе или системе.
Его ученик К. В. Лебедев подверг критическому анализу все зарубежные нозологические системы, не оспаривая при этом нозологических принципов психиатрии (1840).
Этот период развития психиатрии может быть обозначен как клинико-нозологический, сформировавший новую клинико-систематическую парадигму понимания душевных или психических заболеваний.
Однако в XIX веке была возобновлена дискуссия, отразившая давнюю полемику между Книдской и Косской школой и ставшая этапом формирования клинико-систематической парадигмы.
После того как Ф. Пинель заложил клиникопсихопатологический фундамент психиатрии как науки, в XIX веке именно во Франции стали формироваться истоки клинико-диагностического подхода — основного метода диагностики и систематики. Одними из наиболее крупных учеников и последователей его были Ж. Эскироль, А. Бейль, Ж.-П. Фальре (отец), Е.-Ш. Ласег, Б. Морель, В. Маньян и другие, которые основали концептуальное направление французской клинической школы.
Эскироль Ж. выделял пять основных форм помешательства: липеманию (меланхолию), мономанию, манию, слабоумие и имбецильность [16], которые выражают родовой характер помешательства. Он уделял основное внимание «психиатрии течения», возражая против будущей теории «единого психоза». В его трудах, как полагал В. М. Морозов (1961), клиниконозологическое направление проходило свою начальную стадию развития [17]. Ж. Эскироль впервые в психиатрии дал научное понятие галлюцинаций.
Бейль А. внес существенный вклад в утверждение нозологического принципа, выделив прогрессивный паралич как самостоятельное заболевание, имеющее клиническую картину и исход в слабоумие. Здесь впервые видно торжество клинической медицины, так как являющаяся возбудителем болезни бледная трепонема была обнаружена в крови С. Вассерманом в 1833 году, а в мозгу — только в 1913 году Х. Но-гуши.
Французские врачи, продолжая традиции Ф. Пинеля и Ж. Эскироля, успешно использовали клинические наблюдения для уточнения диагноза.
Ж.-П. Фальре (отец) [18] очень точно выразил концептуальную идею о значении клинических типов болезней для психиатрической систематики: «Что необходимо изучать... — это ход и развитие болезни... Тогда мы откроем различные болезни и их фазы, в которые они вступают... Мы будем иметь возможность построить новую естественную классификацию психозов» [19].
Одновременно с разработкой нозологического разделения болезней в XIX веке формировалось и совершенно новое направление, концепция «единого психоза». Прежде всего о ней стали упоминать в немецкой психиатрии 1840— 60-х годов. Её родоначальником стал Ж. Гислен [20], полагавший, что психозы проходят одинаковый путь развития и в этом отношении меланхолия — «фундаментальная форма, с которой начинаются все психозы», в дальнейшем она переходит в манию, после чего развивается бред со спутанностью, а затем систематический бред. Конечная стадия психоза — деменция.
Гризингер В. (1845), как он сам замечал, стремился к физиологической характеристике различных стадий единого психоза: болезнь начиналась с аффективной сферы, затем появлялись расстройства мышления и воли, и, наконец, все завершалось органическим распадом.
В России через два года после издания руководства В. Гризингера русский психиатр П. П. Малиновский указывал, что, поскольку в трудах иностранных психиатров встречается множество вариантов помешательства, необходимо различать болезни и их симптомы [21].
Учение о «едином психозе» было исторически необходимым, поскольку покончило со спекулятивной и симптоматической интерпретацией психических расстройств и поставило учение о психозах на общепатологическую и патогенетическую основу.
Психиатрическая помощь в России отличалась от системы, принятой в Западной Европе. В конце XVIII века в губернских городах при общих больницах стали учреждаться особые дома или отделения для «умалишенных», и с самого начала ими руководили врачи. Первый такой дом был построен в Петербурге в 1782 году, в Москве первой стала Преображенская больница (1808), которой руководил В. Ф. Саблер. Он придавал большое значение роли психогенных факторов в этиологии психических заболеваний, советуя помнить: «Лечим не болезнь, а Петра или Павла». В 1876 году был введен курс психиатрии при Петербургской военно-медицинской академии под руководством И. М. Балинско-го. Настоящим научным учреждением эта клиника стала в период деятельности И. П. Мерже-евского, представителя клинико-морфологического (нозологического) направления.
Кандинский В. Х. придерживался тех же взглядов. Он считал, что время стало для психиатрии временем замены прежних, односторонне симптоматологических воззрений воззрениями клиническими, т. е. теми естественными формами, которые имеются в действительности, а не в искусственных теоретических построениях с учетом одного произвольно выбранного симптома (1890). Он выделил новую нозологическую единицу — идеофрению, чему посвятил монографию [22]. Идеофрения В. Х. Кандинского стала прообразом шизофрении — понятия, появившегося в немецкой психиатрии XX века.
Основатель московской школы С. С. Корсаков, разделяя взгляды В. Х. Кандинского, считал, что выделение форм болезней в психиатрии должно основываться на тех же принципах, что и в соматической медицине. По его мнению, мы наблюдаем не один какой-нибудь симптом душевного заболевания, а их совокупность [23].
Им была выявлена новая болезнь, названная на XII Международном медицинском конгрессе в 1897 году Ф. Жолли «болезнью Корсакова», — вариант острой алкогольной энцефалопатии, развивающейся обычно после атипичного алкогольного делирия и характеризующейся сочетанием полиневрита с различной по выраженности атрофией мышц конечностей, а также психическими изменениями в сфере памяти — амнезией, конфабуляцией, псевдореминисценцией [24].
Кроме этого, С. С. Корсаков изучал остро развивающиеся психозы и выделил в 1891 году новую болезненную единицу — «дизнойю» — основную предшественницу острой шизофрении, когда Э. Крепелин еще не заявлял о своей концепции раннего слабоумия.
Выражением взглядов С. С. Корсакова стала его классификация психозов. Выделяя три класса заболеваний, он особенно полно обосновал дифференциацию психозов и психопатологических конституций, противопоставив им скоропреходящие психические расстройства — симптоматические и самостоятельные, а также состояния психического недоразвития. Во втором классе разграничены те заболевания, которые в дальнейшем составили группу эндогенной патологии и органическую патологию. Эта классификация для своего времени стала единственной полной и оригинальной классификацией, основанной на принципе нозологии.
Весомый вклад в развитие нозологического понимания психических заболеваний внес В. М. Бехтерев, выделив как особое заболевание психопатию [25].
Прогрессивный подход к пониманию сущности психических болезней в России способствовал появлению действенных видов помощи больным, строительству новых больниц, формированию внебольничной психиатрической службы, невропсихиатрических диспансеров, появившихся в начале XX столетия. Опыт, накопленный ведущими русскими психиатрами 80—90-х годов XIX века, стал основой создания системы психиатрической помощи в советский и последующие периоды.
Синтезировав опыт, накопленный предшественниками, Э. Крепелин выступил в самом конце XIX века как революционер, предпринявший грандиозную попытку утверждения нозологического направления в психиатрии как основы понимания всей психиатрической патологии. Его основной идеей была гипотеза, что «течение и исход болезни строго соответствуют ее биологической сущности». То, что совершил Э. Крепелин, произвело коренной переворот в клинической психиатрии, его идеи были приняты множеством психиатров, в том числе и в России (кроме В. П. Сербского). Он создал классификацию, сохранившую свое значение как образец логически последовательной методической разработки. С. С. Корсаков при создании русской национальной классификации включил в нее основные позиции крепелинской систематики.
Систематика Э. Крепелина и С. С. Корсакова способствовала утверждению клиниконозологической парадигмы в психиатрии XIX — начала и середины XX века.
В XIX—XXI вв. в соперничестве с идеями «единого психоза» совершенствовались и укреплялись нозологические позиции. Наиболее активно данный процесс идет в последние 20 лет. Это связано с общим прогрессом биомедицинских исследований, что существенно изменяет «лицо болезни», а также с возрастающим влиянием психосоциальных факторов.
Проблемы классификации зачастую выходят за рамки дисциплины в связи с пристальным вниманием общества к понятию «психическая болезнь» и с развитием антипсихиатрического движения.
Кроме того, оказалось, что психиатрия каждой страны имеет присущие только ей отличительные черты, что имеет прямую связь с историческими, социально-экономическими, этническими и культурными факторами.
В немецкой психиатрии появление нозологической концепции Э. Крепелина, трудов по общей психопатологии связано с бурным развитием социально-экономических отношений в эпоху Бисмарка, финансированием здравоохранения и медицины, созданием сети больниц и клиник, имеющих значительные возможности всестороннего лечения больных. Этому способствовали и традиционная немецкая склонность к систематизации, связь медицины с философскими науками, педантичность и аккуратность в сборе и обработке научных материалов.
Французская психиатрическая школа с ее анозологизмом базируется на синдромальном подходе, так как структура социального обеспечения больных не способствовала развитию внебольничной помощи и не обеспечивала длительного динамического наблюдения пациентов. Только в 1990 году было пересмотрено французское психиатрическое законодательство, подготовленное Ж. Эскиролем в 1838 году. Поколения врачей изучали больных в статике, что не способствовало развитию нозологического подхода, и поэтому классификационная концепция базировалась на синдромальном подходе.
Британская психиатрическая школа не имела собственной современной классификационно-диагностической системы, использовала небольшое количество простых диагностических терминов, что отражает склонность англичан независимо и со скепсисом относиться к сложным диагностическим построениям без достаточных этиопатогенетических и клинических обоснований. Даже участвуя в разработке различных вариантов МКБ, в Великобритании эти классификации принимают с большим трудом. Консерватизм затрудняет широкое развитие исследований в этой стране, хотя англичане одни из самых первых разработали и использовали различные шкалы, необходимые для психофармакологических и эпидемиологических исследований.
Скандинавская психиатрия с ее индивидуальным подходом к пациентам впитала в себя особенности социальной культуры северных стран с их тесными семейными связями. Быстрое развитие амбулаторных служб, деинституализация пациентов, адекватная социальная помощь способствовали созданию новых классификационных систем, в основе которых лежит многоосевой принцип, что позволяет сочетать безличные классификационные подходы с индивидуально-личным описанием.
Американская психиатрическая школа соединила черты различных направлений. Очевидно, отсюда ее многоликость и эклектичность. Отсутствие единой теоретической концепции и определенная эклектичность снижают практическую и научную ценность созданной ими DSM-III и DSM-IV.
Ученые пока не выработали единый нозо-логически ориентированный метод создания классификации. Прогресс в создании МКБ хотя и очевиден, но недостаточно поступателен, что связано с противоречивостью подходов и извечным спором нозологического и синдромаль-ного принципов классификации.
Сложность проблемы во многом объясняется тем, что в настоящее время происходит смена основной парадигмы в психиатрии, что заставляет исследователей говорить о кризисе дисциплины.
Можно предположить, что в ближайшие годы психиатры выработают мировоззрение, которое сблизит их с представителями других медицинских дисциплин. Можно выдвинуть следующие принципиальные позиции дальнейшего развития научных основ психиатрии:
-
— биосоциальную модель психических расстройств;
-
— использование достижений в области молекулярной биологии, биохимии, генетики и развития новых методов исследования мозга;
-
— понимание того, что психиатрия является медицинской дисциплиной и деятельность психиатра должна строиться на уважении к больному и соблюдении всех законных и этических норм современной медицинской практики.
-
1. Александровский Ю. Я., Дмитриева Т. Б., Краснов В. Н., Незнанов Н. Г., Семке В. Я., Тиганов А. С. Психиатрия. Национальное руководство. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
-
2. Кербиков О. В., Коркина М. В., Наджаров Р. А., Снежневский А. В. М. : Медицина, 1968.
-
3. Berrios G. Delirium and confusion in the 19th century: a conceptual history // Brit. Journ. of Psich. 1981. Vol. 139. P. 433—449.
-
4. Морозов В. М. История психиатрии и эпистемология : докл. на заседании Московского о-ва психиатров. 8 янв. 1992 г.
-
5. Овсянников С. А. История и эпистемология пограничной психиатрии. М. : Альпачи, 1995.
-
6. Штернберг И. Я. Учение о едином психозе в прошлом и настоящем // Журн. неврологии и психиатрии. 1973. Т. 83. Вып. 9. С. 1403—1409.
-
7. Гезер Г. Основы истории медицины. Казань, 1890.
-
8. Гиппократ. Избранные книги. М. : Сварог, 1994.
-
9. Galenius C. De affectorum noticie. Bd. 3. Venice, 1510.
-
10. Fernelius Ambiani. Universa Medicina. Ultraecti, 1656.
-
11. Linne C. Genera Morborum. Upsaliae, 1763.
-
12. Cullen W. Nosologia metohodicae. Edinburg, 1769.
-
13. Cullen W. First lines of the Practice of Physic. 1784.
-
14. Bumke O. Handbuch des Geistekrankheiten. Springer, 1932.
-
15. Pinel Ph. Nosographie philosophique. Paris, 1818.
-
16. Esquirol J. E. D. Des malades mentales. Paris, 1838.
-
17. Морозов В. М. О современных направлениях в зарубежной психиатрии и их идейных истоках. М. : Медицина, 1961.
-
18. Falret J.-P. Folie circulare // Bull de l'Academ de medicale. 1853—1854.
-
19. Falret J.-P. Larnon existence mentales. Paris, 1838, 1854.
-
20. Guislan J. Traite des phrenopfthies. Bnixelles, 1835. P. 46.
-
21. Малиновский П. П. Помешательство, описанное так, как оно является врачу в практике. СПб., 1847.
-
22. Кандинский В. Х. О псевдогаллюцинациях. СПб. : Изд. Е. К. Кандинской, 1890.
-
23. Корсаков С. С. Курс психиатрии. М., 1901.
-
24. Корсаков С. С. Несколько случаев своеобразной церебропатии при множественном неврите // Клиническая газета. 1889.
-
25. Бехтерев В. М. Психопатия (психонервная раздражительная слабость) и ее отношение к вопросу о вменении. Казань, 1890.
Список литературы Психиатрия: философия или медицина? Краткий очерк становления психиатрии в гуманитарно-философском аспекте
- Александровский Ю. Я, Дмитриева Т. Б., Краснов В. Н., Незнанов Н. Г., Семке В. Я., Тиганов А. С. Психиатрия. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
- Кербиков О. В., Коркина М. В., Наджаров Р. А., Снежневский А. В. М.: Медицина, 1968.
- Berrios G. Delirium and confusion in the 19th century: a conceptual history//Brit. Journ. of Psich. 1981. Vol. 139. P. 433-449.
- Морозов В. М. История психиатрии и эпистемология: докл. на заседании Московского о-ва психиатров. 8 янв. 1992 г.
- Овсянников С. А. История и эпистемология пограничной психиатрии. М.: Альпачи, 1995.
- Штернберг И. Я. Учение о едином психозе в прошлом и настоящем//Журн. неврологии и психиатрии. 1973. Т. 83. Вып. 9. С. 1403-1409.
- Гезер Г. Основы истории медицины. Казань, 1890.
- Гиппократ. Избранные книги. М.: Сварог, 1994.
- Gaiertius C. De affectorum noticie. Bd. 3. Venice, 1510.
- Femeiius Ambiani. Universa Medicina. Ultraecti, 1656.
- Lime C. Genera Morborum. Upsaliae, 1763.
- Cu.Hen W Nosologia metohodicae. Edinburg, 1769.
- Cullen W. First lines of the Practice of Physic. 1784.
- Bumke O. Handbuch des Geistekrankheiten. Springer, 1932.
- Pinel Ph. Nosographie philosophique. Paris, 1818.
- EsquirolJ. E D. Des malades mentales. Paris, 1838.
- Морозов В. М. О современных направлениях в зарубежной психиатрии и их идейных истоках. М.: Медицина, 1961.
- Falret J.-P. Folie circulare//Bull de l'Academ de medicale. 1853-1854.
- Falret J.-P. Larnon existence mentales. Paris, 1838, 1854.
- Guislan J. Traite des phrenopfthies. Bnixelles, 1835. P. 46.
- Малиновский П. П. Помешательство, описанное так, как оно является врачу в практике. СПб., 1847.
- Кандинский В. Х. О псевдогаллюцинациях. СПб.: Изд. Е. К. Кандинской, 1890.
- Корсаков С. С. Курс психиатрии. М., 1901.
- Корсаков С. С. Несколько случаев своеобразной церебропатии при множественном неврите//Клиническая газета. 1889.
- Бехтерев В. М. Психопатия (психонервная раздражительная слабость) и ее отношение к вопросу о вменении. Казань, 1890.