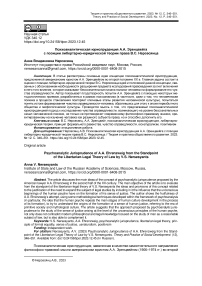Психоаналитическая юриспруденция А.А. Эренцвейга с позиции либертарно-юридической теории права В.С. Нерсесянца
Автор: Нерсесянц А.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные идеи концепции психоаналитической юриспруденции, предложенной американским юристом А.А. Эренцвейгом во второй половине XX в. Главная задача состоит в оценке с позиции либертарно-юридической теории В.С. Нерсесянца идей и положений данной концепции, связанных с обоснованием необходимости расширения предмета исследований правоведения за счет включения в него того влияния, которое оказывают бессознательные начала психики человека на формирование его чувства справедливости. Автор показывает плодотворность попытки А.А. Эренцвейга с помощью некоторых методологических приемов, разработанных в рамках психоанализа (в частности, идеи о том, что человеческая психика в процессе становления повторяет ключевые этапы развития человеческой культуры), попытаться понять истоки формирования чувства справедливости человека, обратившись для этого к эпохе первобытного общества и мифологической культуры. Проводится мысль о том, что предлагаемый психоаналитической юриспруденцией подход к исследованию чувства справедливости, возникающего на уровне бессознательных начал человеческой психики, не только не противоречит современному философско-правовому знанию, ориентированному на изучение человека как разумного субъекта права, но и способно дополнить его.
В.с. нерсесянц, а.а. эренцвейг, психоаналитическая юриспруденция, либертарно-юридическая теория, принцип формального равенства, чувство справедливости, юснатурализм, позитивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149144633
IDR: 149144633 | УДК: 340.12 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.45
Текст научной статьи Психоаналитическая юриспруденция А.А. Эренцвейга с позиции либертарно-юридической теории права В.С. Нерсесянца
Институт государства и права Российской академии наук, Москва, Россия, ,
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
половине XX в. (In memoriam…, 1974), до сих пор не привлекала заметного внимания со стороны российских правоведов. Однако предложенный им подход к толкованию правовых явлений представляет научный интерес хотя бы потому, что в нем получило отражение то влияние, которое в ХХ в. оказал психоанализ З. Фрейда на социогуманитарное знание. Как отмечали участники проведенной в 2000 г. в Москве международной российско-австрийской научной конференции на тему «Зигмунд Фрейд и психоанализ в контексте австрийской и русской культур», западная культура в прошлом веке пережила своего рода «психоаналитическую революцию», которая оставила след и на ее современном облике (Бытие и время…, 2000). В России в настоящее время отношение к психоанализу в целом характеризуется, как указывает известный отечественный философ В.А. Лекторский, желанием поспешно и зачастую поверхностно «ассимилировать то, что на Западе давно усвоено», при этом «серьезный философский и теоретический анализ фрейдовской концепции почти не проводится» (2000: 103). Обращение к творческому наследию А.А. Эренцвейга позволит, на наш взгляд, преодолеть этот пробел применительно к российской философии права.
При характеристике любой философско-правовой концепции необходимо обозначить тот тип правопонимания, который будет использоваться в качестве теоретико-методологического ориентира для анализа. В данном случае мы опираемся на разработанную В.С. Нерсесянцем (1938– 2005 гг.) либертарно-юридическую теорию права, основанную на толковании сущности права как принципа формального равенства, который раскрывается через триединство и взаимосвязь таких категорий, как абстрактно-всеобщее равенство (мера и норма), свобода и справедливость (Нерсе-сянц, 2002). Мы исходим из того, что этот подход уже доказал право на существование и традиции в осмыслении права, «отчасти продолженные, отчасти заложенные В.С. Нерсесянцем, имеют многочисленных сторонников» (Савенков, Горбань, 2003: 17).
Как признается в современной юридической литературе, важным достоинством разработанной В.С. Нерсесянцем либертарно-юридической теории служит то, что ему удалось выстроить «чистое» учение о праве, которое при этом не является позитивистским. В рамках либертарного, или, как иногда пишет автор, формально-юридического, подхода у права как формальной категории возникло свое, а именно – формально-правовое, содержание (Савенков, Горбань, 2003: 11). Такая «чистота» правового учения В.С. Нерсесянца обусловлена тем, что в его либертарно-юридической теории право как форма отделяется от опосредуемого этой формой фактического (экономического, политического, нравственного, религиозного и т. д.) содержания. Но при этом в отличие от позитивизма право как форма имеет собственное содержание: она включает в себя формально-всеобщую равную меру, формальную свободу и формальную справедливость. Благодаря этому правовая форма, как писал В.С. Нерсесянц, содержит в преобразованном виде «моменты как естественно-правового юридизма, так и легистского формализма»1, преодолевая недостатки обоих подходов и освобождаясь от антагонизма между ними. В его толковании права как правового закона (т. е. закона, соответствующего принципу формального равенства) соединяются, с одной стороны, стремление позитивизма свести право к закону, а с другой – идеи естественно-правовых доктрин о праве как выражении равенства, свободы, справедливости и т. д.
Если с позиции такого подхода к пониманию права обратиться к анализу творчества А.А. Эренцвейга, прежде всего нужно отметить, что автор психоаналитической юриспруденции также был озабочен идеей поиска синтеза между позитивистскими теориями права и естественноправовыми учениями. Более того, именно эта идея и побудила его использовать психоанализ в качестве инструмента познания правовых явлений. Будучи экспертом в области изучения коллизий в праве, А.А. Эренцвейг стремился рассматривать теоретические противоречия между двумя ведущими школами правовой мысли как конфликт, который важно решить для совершенствования практики правосудия. Ведь в каждом из двух противоборствующих подходов, по его мнению, существует своя правда, понимание которой необходимо для юридической (и прежде всего судебной) практики. При этом, как и В.С. Нерсесянц, он понимал, что любые попытки простого соединения двух принципиально несводимых направлений правовой мысли неизбежно будут носить эклектичный, противоречивый характер. Однако в отличие от В.С. Нерсесянца, который пошел по пути разработки самостоятельного типа правопонимания, диалектически снимающего на теоретическом уровне противоречия между позитивизмом и юснатурализмом, А.А. Эренцвейг попытался найти их исходное единство в природном чувстве справедливости человека (Ehrenzweig, 1971: 87). Применительно к практической профессиональной деятельности судьи, находящегося в эпицентре столкновения двух противоборствующих интересов и соответствующих им представлений о справедливости, такой подход ориентировал на выход из области теоретических абстракций в сферу чувственного познания справедливости.
В качестве инструмента исследования чувства справедливости американский правовед использует достижения психоанализа З. Фрейда. Основная идея психоаналитической юриспруденции А.А. Эренцвейга заключается в том, чтобы частично переключить внимание правовой науки, которая, по его мнению, сфокусирована исключительно на рассудочной (сознательной) составляющей человеческого разума, на осмысление его чувственных начал (Rentsch, 2016: 164). Правовая наука, считал он, затерялась среди теоретических абстракций, облаченных в форму справедливого закона, забывая о тех индивидуальных представлениях о справедливости (чувствах справедливости), столкновение которых требует поиска правового консенсуса в процессе как законодательной деятельности, так и правоприменительной. При этом изучение чувства справедливости предполагает обращение в том числе к импульсам, влечениям, аффектам и т. д., заложенным в бессознательное начало человеческой психики, инструментом осмысления которого и стал для А.А. Эрен-цвейга психоанализ как наиболее разработанный во второй половине ХХ в. способ изучения человеческой психики в единстве ее бессознательного, сознательного и сверхсознательного начал.
В обращении к чувству справедливости А.А. Эренцвейг был не одинок. Примерно в одно время с публикацией его книги «Психоаналитическая юриспруденция» вышла в свет знаменитая работа американского философа Дж. Ролза «Теория справедливости», заключительная глава которой (гл. VIII) называется «Чувство справедливости». Коллега А.А. Эренцвейга, американский юрист М. Рейнштейн, высоко оценивший потенциал психоаналитической юриспруденции, отметил, в частности, что «интуитивно-дорациональное» чувство справедливости А.А. Эренцвейга совершенно не противоречит позиции Дж. Ролза (Rheinstein, 1973). Задолго до этого известный английский юрист Дж.Ф. Стивен в работе «Свобода, равенство, братство» писал о том, что «доктрина равенства отличается больше всего чувством и меньше всего ясностью» (1907: 171). В большинстве случаев равенство, по его мнению, представляет собой смутное стремление к такому общественному порядку, при котором уменьшается контраст различий между «жребием одних и жребием других людей» (Стивен, 1907: 171). Такое туманное понимание равенства, как считал Дж.Ф. Стивен, сложно свести в одну формулу, поскольку многочисленные интерпретации равенства в целом продиктованы чувством (Стивен, 1907: 171), а именно – чувством справедливости. Таким образом, чувство справедливости давно привлекало внимание юристов и философов, занимающихся проблемами справедливости.
Заслуга А.А. Эренцвейга заключается в том, что он не просто констатировал значение чувства справедливости для правовой теории и практики, но и попытался понять, как возникло это чувство в процессе онтогенеза и филогенеза человеческой личности. Не имея возможности заглянуть в глубины бессознательного, он обратился к начальным этапам зарождения человечества в эпоху первобытного общества и мифологической культуры, используя в качестве теоретико-методологического ориентира обоснованный З. Фрейдом тезис о том, что человеческая психика в процессе становления повторяет ключевые этапы формирования и развитии человеческой культуры. А.А. Эренцвейг, который, как и В.С. Нерсесянц, тесно увязывал понятия справедливости и равенства, попытался вернуться к истокам формирования справедливости как основы права и понять, как формируется то изначальное чувство справедливости, откуда в процессе биосоциальной эволюции человечества возникли современные правовые абстракции равенства.
Чтобы пояснить значение такого подхода к осмыслению права как выражения справедливости, определяемой через равенство, следует, на наш взгляд, установить этимологию слова «равенство», обратившись к его древнейшим версиям в греческом языке (ἴσα), арамейском языке (איך נפשך) и санскрите (sāma). Так, древнегреческое ἴσος (isos) истолковывалось как «равное» в контексте воздаяния равным за равное. Например, фраза τὰ ἴσα καὶ τὰ δίκαια означала справедливое (равное) воздаяние1. В арамейском языке существовал предлог איך, который обозначал «как» и часто использовался в контексте сравнения. Важно отметить, что в исконной арамейской версии Евангелия от Матфея в отличие от греческого текста, где сказано «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39), написано «возлюби ближнего, как душу свою»2. Данная, более древняя, версия этой евангельской фразы позволяет лучше понять смысл такого равенства: это равенство не самих людей, а их душ, в которых нашло отражение божественное начало. Речь идет о том, что именно благодаря духовно-психологическому измерению, которое у человека восходит к Богу как к его идеальной проекции, он идентифицирует себя с ближним, как с равным себе Божественным творением. В ведийском сборнике Яджурведы говорится, что «если кто-то видит всех существ так, как если бы они были им самим, и также видит самого себя в других, то разум его покоится в мире и никакие сомнения не тревожат его» (Dwivedi, 2019: 10). Согласно философским текстам Упанишады, «все едины, поэтому, если вы причиняете вред кому-либо, вы причиняете вред себе» (Dwivedi, 2019: 10).
В одном из основных священных текстов индуизма – Иша-упанишада, своего рода Священном Писании – сказано об уттама-адхикари, т. е. о человеке, находящемся на высшей стадии осознания Господа, который провозглашает идеи всеобщего равенства и проповедует идею «всеобщего братства». Это тот, кто понимает «природу индивидуальной души и Сверхдуши – полной экспансии Верховного Господа, пребывающей всюду»1. Христианский религиозный мыслитель П.А. Флоренский также говорит о способности духовного совершенствования «эмпирической личности через Образ Божий» (Павличенков, 2007: 80), что подтверждает арамейскую версию Библии и согласуется с ее трактовкой равенства как равенства душ.
Отсюда следует, что древний человек, опираясь на божественный сакральный идеал, видел в других людях отражение своей души как проявления божественного начала, присутствующего в душах его ближних. Таким образом, смысловым ядром древнего равенства является идентификация человеком себя с другой личностью, опосредованная духовным уподоблением божеству: правовое равенство произрастало из взаимного признания человеком значимости ближнего как обладающего душой и в этом смысле равноценного ему божественного творения2. Из сказанного можно сделать вывод, что в древности важным импульсом для духовного развития человека было стремление к идеалу, которое сопровождалось идентификацией с этим идеалом, представляемым в виде антропоморфного божества.
Такое взаимное признание между людьми возможно лишь в двух ценностно-нормативных системах – в религии и праве, сформированном на ее основе. С этой точки зрения показательно, что и В.С. Нерсесянц, и А.А. Эренцвейг, обращаясь к истории человечества, искали истоки права в религиозных мифах. Оба ученых исходили из того, что древние народы (греки, индусы, египтяне и т. д.) выводили свое право непосредственно из божественных установлений, поэтому нарушение такого права расценивалось как вызов богам (Нерсесянц, 1979: 9). Особое внимание в работах ученые уделили эпохе гомеровской Греции (конец II – начало I тыс. до н. э.). Причем для обоих авторов узловым моментом в их исследовании соотношения религии и права в этот период стала богиня Дике – дочь Зевса, вершительница справедливости в круговороте душ3.
Дике как дочь неба, которая предстает в качестве природной силы, охраняет божественную справедливость и карает за отступления от нее. Будучи естественной силой природы, Дике несет в себе справедливость, отличающуюся от права земного (положительного), и именно здесь находится зародыш последующих различий между двумя разными подходами к пониманию права: понятием о праве по природе или естеству (фёсеи) и понятием о праве по человеческому установлению (номо)4. На примере взаимоотношений древних греков с богиней Дике В.С. Нерсесянц показал, как происходил «отход от первобытной мифологической культуры» под влиянием процессов рационализации политико-правовых представлений (1979: 9). Во времена гомеровской Греции «божественная по своей природе справедливость выступала в качестве объективного основания и критерия правового. И только то, что соответствовало тогдашним взглядам на справедливость, воспринималось как право. Лишь благодаря легитимации в контексте представлений о справедливости (дике) то или иное притязание становилось правовым и входило в обычай (темис), т. е. в общепринятые нормы поведения»5, которые со временем перерастали в человеческие установления (номо).
А.А. Эренцвейг, неоднократно обращавшийся в работах к истокам происхождения права и справедливости, также особо выделяет богиню Дике, олицетворяющую единый закон мироустройства, основанный на постулатах естественной справедливости. Однако «после Гераклита мир закона и справедливости Дике начал раскалываться», поскольку человек отошел от безоговорочной веры в Дике, в результате чего в сферу человеческих отношений вторглась Эрида (раздор) со своими служанками эриниями (Ehrenzweig, 1971: 36), превратив эти отношения в арену борьбы между разными индивидуальными справедливостями.
Но если В.С. Нерсесянц в анализе права, вырастающего из естественной справедливости (Дике), идет вверх по линии исторического развития к абстракции формального равенства, то А.А. Эренцвейг, считавший, что знания одних правовых абстракций недостаточно для судьи, принимающего решение в конкретном судебном споре, пытается заглянуть вглубь истории, в самые истоки зарождения тотемной религии и связанной с ней системы табу, чтобы понять, каким образом посредством «синтеза индивидуумов была достигнута сверхиндивидуальная тотальность» (Ehrenzweig, 1971: 36), сформировавшая первобытный социум. При этом он опирается на работы З. Фрейда и прежде всего его книгу «Тотем и табу». Вслед за австрийским психоаналитиком, который формулировал свои гипотезы на базе изучения трудов Ч. Дарвина, Дж. Фрезера, В. Вундта и других антропологов, американский юрист пришел к выводу о формировании у членов первобытного сообщества «чувства сопричастности» друг другу во время коллективной тотемной трапезы, когда отменяется табу на убийство тотема и члены рода совместно употребляют в пищу священное животное.
Для этого А.А. Эренцвейг обратился к гипотезе З. Фрейда о том, что в первобытной орде как первоначальной форме проточеловеческого сообщества доминировал сильный вожак (отец), который изгонял повзрослевших сыновей из стаи. В какой-то момент изгнанные братья, согласно версии психоаналитика, вынуждены были объединиться и, предварительно сговорившись, свергнуть отца, совершив затем над ним акт каннибализма. Однако во избежание дальнейшего кровопролития между претендентами на власть в клане уже сами братья основали своего рода братский союз, включающий в себя свод правил (табу), нарушение которых неминуемо вело бы в равной степени к суровому наказанию любого члена сообщества. При этом убитый отец впоследствии отождествился в их сознании со священным тотемом. Сакрализации образа отца способствовало чувство вины братьев за предательство и убийство прародителя. В память о содеянном (убийстве отца) частью культуры тотема становится тотемная трапеза, когда отменяется табу на убийство тотема (олицетворение праотца) и члены рода совместно употребляют в пищу тотемное животное. Такое приобщение к плоти и крови священного животного в процессе тотемной трапезы содействовало формированию качественно новой связи между членами общества, их идентификации себя с ближними и соединению в единое целое благодаря уже не только кровнородственным узам, но и социальным отношениям.
Как подчеркивал З. Фрейд, члены формирующегося таким образом человеческого сообщества объединялись не вокруг общего предка, с которым у них было кровное родство (как у членов одной стаи), а вокруг тотема, соединившего их на базе общей веры в тотемное божество и системы табу, выстроенной на базе этой тотемной религии. Из этого братского соединения и выросло чувство справедливости, в основе которого лежала эмпатия к соплеменникам как к равным себе субъектам, объединенным причастностью к общему тотему и следованием общей для всех системе табу. Такое соединение людей в первичный социум, скрепленный равным подчинением догматам тотемной религии и требованиям основанных на ней табу, обеспечивало единственно возможную для древнего человека свободу – избегать наказания от соплеменников и возмездия от высших сил за нарушение табу.
Подводя итоги, можно сказать, что между либертарно-юридической теорией В.С. Нерсесянца и психоаналитической юриспруденцией А.А. Эренцвейга при всей принципиальной разнице их подходов, по существу, нет противоречий. В стремлении преодолеть теоретическое противостояние между естественно-правовыми доктринами и позитивистскими правовыми теориями В.С. Нерсе-сянц пошел по пути выстраивания максимально абстрактного подхода к пониманию права, основанного на сущностном принципе формального равенства. В отличие от этого А.А. Эренцвейг считал, что философы права, уйдя от психологической природы человека и связанного с ней чувства справедливости в теоретические абстракции, оказались в «заточении в Вавилонской башне, из которой они будут освобождены, только найдя общий язык для разговора о праве» (Ehrenzweig, 1971: 44). Как ни парадоксально, но эти два разных подхода вовсе не противоречат другу. Могут ли они дополнить другу друга – это вопрос, требующий осмысления.
Список литературы Психоаналитическая юриспруденция А.А. Эренцвейга с позиции либертарно-юридической теории права В.С. Нерсесянца
- Бытие и время психоанализа: материалы Междунар. рос.-австр. конф. «Зигмунд Фрейд в контексте австрийской и русской культур» / сост. М.М. Абовьян, Д.П. Брылёв. М., 2000. 100 с.
- Теория и практика общественного развития. 2023. № 12. С. 346-351. Theory and Practice of Social Development. 2023. No. 12. P. 346-351.
- Лекторский В.А. О некоторых философских уроках З. Фрейда // Философские науки. 2000. № 2. С. 103-108. Медушевская Н.Ф. Методологический анализ правового сознания // История государства и права. 2023. № 11. С. 2734. https://doi.org/10.18572/1812-3805-2023-11-27-34.
- Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы философии. 2002. № 3. С. 3-15. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. 261 с.
- Павличенков Н.Н. Тема антропологии в наследии священника Павла Флоренского // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Философия. 2007. № 3 (19). С. 71-88.
- Савенков А.Н., Горбань В.С. В.С. Нерсесянц как философ права переходного периода: от советского к постсоветскому // Академик В.С. Нерсесянц. Философско-правовое наследие / отв. ред. А.С. Савенков. М., 2003. С. 7-18.
- Стивен Дж.Ф. Свобода, равенство, братство. Сочинения Джемса Фитцджэмса Стивна / пер. с англ. М. Муромцева. СПб., 1907. 314 с.
- Dwivedi D.V. Thoughts for right to equality in Vedic tradition // Jahnavi Sanskrit E-Journal. 2019. Vol. 8, no. 1. Р. 10-17. Ehrenzweig A. Psychoanalytic jurisprudence. N. Y., 1971. 283 р.
- In memoriam: Albert A. Ehrenzweig (1906-1974) / R.W. Jennings, F.C. Newman, D.W. Louisell, S.A. Riesenfeld, A. Blyberg, J. Lobe // California Law Review. 1974. Vol. 64, no. 4. P. 1069-1083.
- Rentsch B.K. Hans Kelsen's psychoanalytic heritage - An Ehrenzweigian reconstruction // Hans Kelsen in America - Selective affinities and the mysteries of academic influence / ed. by D. Telman. Cham, 2016. Р. 161 -174. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33130-0_9.
- Rheinstein M. Review of Psychoanalytic Jurisprudence by A.A. Ehrenzweig // The University of Chicago Law Review. 1973. Vol. 40, no. 4. Р. 891-896.