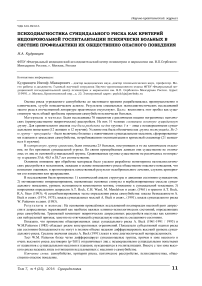Психодиагностика суицидального риска как критерий недобровольной госпитализации психически больных в системе профилактики их общественно опасного поведения
Автор: Кудрявцев Иосиф Абакарович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 4 (25) т.7, 2016 года.
Бесплатный доступ
Оценка риска угрожаемого самоубийства до настоящего времени разрабатывалась преимущественно в клиническом, сугубо поведенческом аспекте. Результаты специальных психодиагностических исследований такого рода в отечественной литературе практически отсутствуют. Цель: восполнить этот пробел как существенную часть общей проблемы превенции самоубийств психически больных. Материалы и методы: Были исследованы 76 пациентов с различными видами пограничных психических (преимущественно невротических) расстройств. Из них 51 человек составили основную суицидальную группу. Для сравнительного анализа она была разделена на две группы: 1-я - лица с незавершенными суицидальными попытками (12 женщин и 12 мужчин). Условно она была обозначена как группа постсуицида. Во 2-ю группу - пресуицида - были включены больные с навязчивыми суицидальными мыслями, сформированными планами и замыслами самоубийства, потребовавшими госпитализации в кризисный стационар (21 женщина и 6 мужчин). В контрольную группу сравнения, были отнесены 25 больных, поступивших в то же клиническое отделение, но без признаков суицидальной угрозы. По своим преморбидным данным они существенно не отличались от лиц из основной суицидальной группы. Сравниваемые группы существенно не различались по возрасту: в среднем 35,6; 40,5 и 38,7 лет соответственно. Основное внимание при обработке материала было уделено разработке мониторинга патопсихологических расстройств и механизмов, лежащих в основе повышенного риска общественно опасного поведения, что позволяло оценивать и прогнозировать качественный результат недобровольного лечения, служить критериями его изменения или прекращения. В исследования были применены: 1) клинический анализ структуры и динамики состояния суицидентов; 2) мотивационное интервьюирование, выявляющее основные стимулы и вербализированные смыслы суицидального поведения, уровень осознанности компонентов мотива, отношение к суицидальной тенденции; 3) вопросники определения депрессии А.Т. Beck, C.H. Ward, M. Mendelson и соавт. (1961) и тревоги A.T. Beck, R.A. Steer (1993); 4) сенсибилизированные тесты определения риска самоубийства: шкалы безнадежности A. Beck и соавт. (1974, 1975), шкала суицидальных мыслей A. Beck и соавт., (1991), шкала суицидального риска W. Patterson и соавт. (1983). Результаты и выводы: На основании проведённых исследований подтвержден высокий ранг депрессии и депрессивных переживаний как наиболее важных клинико-психологических состояний, определяющих риск самоубийства. Тревожный компонент невротических депрессивных расстройств выступал как клинически нейтральный признак, заметно не отягчающий суицидальную опасность смешанного состояния. Показано, что применение общепризнанных шкал суицидального риска A. Beck (1961-1991 / 1993) и W.M. Patterson (1983) обладает рядом конструктивных ограничений. Показатели субъективной оценки риска как состояния безнадежности не могут в полном объеме надежно дифференцировать высокий уровень суицидального риска. Средние значения шкалы A. Beck (1991) лежат в зоне диагностической неопределенности. Тест W.M. Patterson более четко дифференцирует суицидоопасные группы, причем в зоне высокого и очень высокого риска достоверно (р
Самоубийство, критерии риска, психическое расстройство, психодиагностика, общественно опасное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/140141511
IDR: 140141511 | УДК: 616.89:616
Текст научной статьи Психодиагностика суицидального риска как критерий недобровольной госпитализации психически больных в системе профилактики их общественно опасного поведения
Диалектика формирования нового психосоциального подхода к лицам с психическими расстройствами, имплицитно включающим в себя принципы толерантности, дестигматизации и равенства социальных возможностей для психически больных и здоровых лиц, существенно повышает ответственность общества за судьбу больных и лиц их окружающих. Неточности и ошибки просветительной пропаганды, эмоциональный пафос антипсихиатри-ческих протестов, несовершенство применения самых прогрессивных законов, защищающих психически больных от злоупотреблений, нередко оборачиваются неожиданной бедой для больных или/и социума, в котором больные живут, и с которым они коммуницируют и взаимодействуют в процессе социальной адаптации и реабилитации. Наиболее тяжелые неудачи и ошибки в этом процессе выливаются в общественно опасное поведение (ООП) и общественно опасное деяние (ООД), где страдающей стороной становятся либо сами больные, либо их окружение.
Такого рода неблагоприятные эксцессы существенно учащаются в периоды общественного неблагополучия, когда социальные фрустрации озлобляют, дегуманизируют и разобщают людей. Сопутствующие социальным трудностям эмоциональные проблемы и перегрузки нередко вызывают или усугубляют у психически больных явления тяжелой социальной дезадаптации и выраженной дезрегуляции конвенциального поведения. Как правило, это выражается в различных формах агрессии, направленной на окружающий психически больных социум или/и на самих себя [1], что определяет необходимость постоянного дальнейшего совершенствования превентивных, профилактических мероприятий.
Первичная психопрофилактика включает в себя мероприятия по предупреждению психических расстройств (в том числе общепрофилактического плана)1.
Вторичная психопрофилактика предполагает комплекс мероприятий по предупрежде- нию неблагоприятной динамики уже возникшего психического заболевания, уменьшению его патологических проявлений, облегчению течения болезни и улучшению исхода.
Третичная психопрофилактика охватывает комплекс мер по реабилитации и предупреждению неблагоприятных социальных последствий заболевания, в том числе мероприятия по предупреждению суицидальных действий .
Предупреждать их первичное развитие изначально возможно только в рамках общей психиатрической практики. И лишь после надежной апробации превентивных мер здесь, адаптировать профилактические приемы реабилитации психически больных к условиям недобровольной госпитализации в стационаре.
Универсальность базового подхода отражена и в законодательстве России. Как в УК РФ (ст. 97), так и в Законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ст. 29), основания ограничения прав психически больных в виде принудительности или недобровольности лечения сформулированы идентично.
В ст. 29 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (в редакции от 21.11.2011 г.) указывается, что «лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях , а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:
-
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
-
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или
-
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи».
В связи со сказанным, включение в рамки профилактики ООП положений, эмпирических критериев и принципов реабилитации больных, разработанных в общей психиатрической практике, представляется не только продуктивным, но и необходимым, обязательным. Указанные данные не могут быть тщательно и полно разработаны только в условиях медицинских учреждений специальной (прежде всего судебно-психиатрической) практики. Это особенно относится к проблеме психодиагностики и психологической коррекции суицидальной угрозы (степени риска самоубийства). С учетом сказанного, решение этой проблемы было выполнено преимущественно на общем психиатрическом материале, а также данных посмертных КСППЭ.
Среди различных видов поведения, представляющих «непосредственную опасность для себя» у психически больных, наиболее тяжелым и часто необратимым является самоубийство. Проблема самоубийств в России становится все более актуальной. В возрасте 15-34 лет смертность в результате суицидов занимает первое место [2]. Особенно неблагополучно обстоит дело в молодежной среде больших городов, где суициды учащихся старших классов и студентов временами принимают эпидемический характер. Согласно прогнозу ВОЗ, к 2020 г. количество самоубийств может возрасти на 50%, а количество людей, совершающих суицидальные попытки, увеличится в 10-20 раз [3], составив около 1,5 млн. человек [4].
Наиболее уязвимой категорией населения, как уже отмечалось, являются лица с психическими расстройствами. Исследования показали, что такие пациенты наиболее часто помещаются в кризисный стационар в порядке недобровольной госпитализации по поводу суицидальных намерений (навязчивых мыслей, замыслов) или/и незавершенных попыток самоубийства.
По материалам ВОЗ [5] и данным отечественных исследователей [6], психические расстройства на момент совершения самоубийства имеют место у 90-95% суицидентов. Согласно результатам Датского реестрового исследования [Цит. по 6], значение риска на популяционном уровне в отношении совершения суицида лицами с психическими расстройствами, требующими госпитализации, составило 40,3%. При наиболее суицидоопасных психических заболеваниях данные особенно показательны. В частности, при депрессивных расстройствах риск суицида выше, чем в общей популяции, в 30, при шизофрении – в 20 раз. При расстройствах личности (в первую очередь при истерическом и эмоционально неустойчивом его вариантах) риск суицида превышает показатели общей популяции в 15 раз.
При алкоголизме он выше в 10 раз, при эпилепсии – в 4 раза, при стрессовых расстройствах – в 3 раза [6].
Приведенные данные убедительно свидетельствуют, что лица, страдающие психическими расстройствами, имплицитно несут потенциальную повышенную «опасность для себя» и требуют постоянной дифференцированной оценки на предмет степени актуальности риска самоубийства.
Одним из аспектов медицинского решения этой проблемы является совершенствование превентивных мер, включающих раннюю надежную диагностику и мониторинг состояний, угрожающих суицидом. Особая важность динамического наблюдения такого рода психически больных определяется, прежде всего, тем, что те из них, кто ранее совершал попытку самоубийства, склонны повторять её в будущем [7, 8]. Наиболее опасным в этом плане является период ближайшего года после первичного суицида, особенно ближайших 5-6 месяцев [7]. Вследствие этого такие лица должны быть отнесены к группе наиболее высокого риска, требующего эффективного профессионального наблюдения и направленной профилактики суицидальных рецидивов, опирающихся на индивидуальный прогноз кризисного эпизода. Между тем оценка риска угрожаемого самоубийства до настоящего времени разрабатывалась преимущественно в клиническом, сугубо поведенческом аспекте [1]. Результаты специальных психодиагностических исследований такого рода в отечественной литературе практически отсутствуют. Восполнение этого пробела предпринято в настоящей статье как существенная часть общей проблемы превенции самоубийств психически больных.
Материал исследования.
Были исследованы 76 пациентов крупной областной психиатрической больницы с различными видами пограничных психических (преимущественно невротических) рас-стройств1. Из них 51 человек (в том числе 15 недобровольно госпитализированных) в своей совокупности составили основную суицидальную группу. Для сравнительного анализа она была разделена на 2 группы. 1-ю группу составили лица с незавершенными суицидальными попытками (n=24: 12 женщин и 12 мужчин).
Условно она была обозначена как группа постсуицида . Во 2-ю группу, названную группой пресуицида , были включены больные с навязчивыми суицидальными мыслями, сформированными планами и замыслами самоубийства, потребовавшими госпитализации в кризисный стационар (n=27: 21 женщина и 6 мужчин).
В 3-ю, контрольную группу сравнения, были отнесены 25 больных, поступивших в то же клиническое отделение психиатрической больницы в тот же период времени по поводу пограничных, преимущественно невротических, расстройств психики, но без признаков суицидальной угрозы. По своим преморбид-ным данным они существенно не отличались от лиц из основной суицидальной группы. Для нивелирования влияния патогенных биологических факторов из разработки были исключены лица с выраженной коморбидной психической патологией (органической, наркотической, соматогенной и т.п.).
Группы существенно не различались по возрасту: в среднем 35,6; 40,5 и 38,7 лет соответственно.
Методология и методы исследования.
Наша исходная методологическая позиция состоит в утверждении, что успешность профилактических реабилитационных и психотерапевтических вмешательств, обеспечивающих предупреждение ООП психически больных в форме суицидов, может быть реализована за счет соблюдения ряда атрибутивных принципов. В их число входят следующие:
-
- использование валидного методического инструментария (надежных информативных технологий, психотехник и эффективных алгоритмов решения поставленных научно - практических задач);
-
- направленность целей и задач исследований на определение ключевых патогенетических звеньев и механизмов, ответственных за суицидальное Общественно Опасное Поведение (суицидальное ООП);
-
- разработка на этой основе терапевтических «мишеней» комплексного лечебного процесса и эффективных психотерапевтических и психокоррекционных методов его осуществления;
-
- разработка средств оценки и мониторинга риска социальной опасности психически больных (соответствующих маркеров степени угрозы реализации и предикторов тенденций динамики опасного поведения психически больных).
Раскрывая ключевые патогенетические нарушения саморегуляции психически больных, обусловливающие повышенный риск совершения опасных действий, такой научнопрактический подход позволяет выделить «терапевтические мишени» направленных лечебных и коррекционных воздействий, оценить их реальный реабилитирующий эффект (глубину, полноту, стабильность, уровень реституции психики и профессиональных возможностей, восстановление личностного и социального статуса больного). Особенно важным достижением следует считать возможность отслеживать изменения риска ООП и ООД в процессе медикаментозного лечения, психотерапии и психологической коррекции, оценивать маркеры и предикторы накануне, как в процессе, так и при завершении недобровольного лечения при решении вопроса об его отмене. Исполняя роль критериев изменений в результате терапевтического процесса, они позволяют осуществлять надежный мониторинг степени выраженности и курабельности патопсихологических расстройств и механизмов, лежащих в основе повышенного риска ООП. Тем самым - оценивать и прогнозировать качество и результат недобровольного лечения, служить критериями его изменения или прекращения. А также, что, на наш взгляд, особенно важно, -обеспечить преемственность психологического мониторинга и динамического прогноза при диспансерном наблюдении лиц с психическими расстройствами или с акцентуациями личности в актуальный ситуационный период, при возникновении сопутствующих (коморбидных) психических расстройств, неблагоприятных социальных давлений и/или фрустраций.
В связи со сказанным, представляет особую важность определение и оценка особенностей, личностных факторов и прогностических признаков суицидального поведения по данным психодиагностических исследований для разработки психологических маркеров - предикторов суицидального риска.
В качестве основных способов выявления таких признаков суицидального поведения были применены:
-
1) клинико-психопатологический анализ структуры и динамики состояния суицидентов;
-
2) мотивационное интервьюирование, выявляющее основные стимулы и вербализиро-ванные смыслы суицидального поведения, уровень осознанности компонентов мотива, отношение к суицидальной тенденции;
Распределение диагнозов в соответствии с МКБ-10 в исследованных группах (%)
Таблица 1
Диагноз по МКБ-10
1-я группа (постсуицид)
2-я группа (пресуицид)
Суицидальная угроза в целом
Группа сравнения
n
%
n
%
n
%
n
%
F06.3. Органические расстройства настроения (аффективные)
1
4,17
1
3,70
2
3,92
0
0
F32.2. Депрессивный эпизод тяжелой степени
8
33,33
3
11,1
11
21,57
1
4,00
F41.2. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
4
16,66
2
7,40
6
11,77
3
12,00
F44.7. Смешанное диссоциативное (конверсионное) расстройство
1
4,17
3
11,1
4
7,84
1
4,00
F45.0. Соматизированное расстройство
1
4,17
2
7,40
3
5,88
1
4,00
F45.2. Ипохондрическое расстройство
1
4,17
5
18,6
6
11,77
3
12,00
F25.08. Шизоаффективное расстройство
3
12,50
1
3,70
4
7,84
1
4,00
F34.0. Циклотимия
3
12,50
1
3,70
4
7,84
0
0
F23.01. Острое полиморфное психотическое расстройство при наличии ассоциативного стресса
1
4,17
0
0
1
1,96
0
0
F23.16. Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, шизофреническая реакция при наличии ассоциативного стресса
1
4,17
2
7,40
3
5,88
0
0
F43.1. Посттравматическое стрессовое расстройство
0
0
1
3,70
1
1,96
2
8,00
F43.2. Расстройство приспособительных реакций
0
0
3
11,1
3
5,88
3
12,00
F45.3. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
0
0
2
7,40
2
3,92
4
16,00
F41.0. Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревожность)
0
0
1
3,70
1
1,96
2
8,00
F60. Специфические расстройства личности
0
0
0
0
0
0
2
8,00
F21.8. Шизотипическое расстройство личности
0
0
0
0
0
0
2
8,00
Итого
24
100,0
27
100,0
51
100,0
25
100,0
-
3) вопросники определения депрессии [9] и тревоги [10];
-
4) сенсибилизированные тесты определения риска самоубийства: шкалы безнадежности A. Beck и соавт. [11, 12], шкала суицидальных мыслей A. Beck и соавт. [13], шкала суицидального риска W. Patterson и соавт. [14].
Для статистической обработки данных были использованы методики пакета прикладных программ «R-system 2.14»: непараметрические критерии сравнения, коэффициент корреляции Спирмена (rs), критерий сравнения независимых выборок Манна-Уитни (U-критерий), критерий сравнения зависимых выборок Вилкоксона (Г-критерий), а также t-критерий Стьюдента.
Таблица 2
Усредненные результаты применения шкал тревоги и депрессии А. Бека в исследованных группах
|
Группа |
Аффективные состояния (вид и показатели) |
|
|
тревога |
депрессия |
|
|
1-я (суицидальные попытки) |
21,8 |
26,7 |
|
2-я (суицидальные мысли) |
25,1 |
27,9 |
|
3-я (без суицидальных проявлений) |
30,7 |
29,6 |
Результаты исследования и их обсуждение.
В выделенных для исследования группах были установлены следующие клинические диагнозы, представленные в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает связь суицидальной активности с состояниями глубокой клинической депрессии. Тяжелые депрессивные эпизоды не только были наиболее частыми причинами совершения попыток самоубийства (33,3%), но и имели один из самых больших весов (11,1%) в группе пресуицида, определяя доминирование суицидальных мыслей в сознании больных. Они значимо (t=2,8; р<0,001) отличались частотностью от группы сравнения, подтверждая высокий ранг депрессии и депрессивных переживаний как наиболее важных клинико-психологических маркеров риска самоубийства.
Указанная зависимость была свойственна всему контингенту лиц с суицидальной активностью. Она с высокой достоверностью (t=2,51; p<0,001) определяла наиболее значимую составляющую высокой опасности самоубийства, установленную специальной комис-сией1, маркируя наибольший суицидальный риск у депрессивных больных кризисного стационара. Менее отчетливо суицидальные тенденции при классическом депрессивном аффекте проявлялись в рамках циклотимии (t=1,82; p>0,07).
Из данных таблицы 1 также вытекает, что смешанные тревожно - депрессивные варианты пограничных заболеваний практически не отличались по частоте в группах сравнения, постсуицида и пресуицида, равно как и в объединенной суицидальной когорте наблюдений. Другим словами, тревожный компонент невротических депрессивных расстройств выступал как клинически нейтральный признак, заметно не отягчающий суицидальную опасность смешанного состояния.
Установленные зависимости имели дифференцированный характер, определяясь тяжестью и характером депрессивных расстройств. При усреднении показателей тревоги и депрессии в выделенных клинических группах (табл. 2) различия между ними сглаживались, подтверждая важную прогностическую роль учета качества актуальных психических состояний.
Вместе с тем при таком сопоставлении обнаружились некоторые новые важные закономерности. Как видно из приведенных результатов, налицо некоторое парадоксальное превалирование среднего уровня тревоги в 3-й группе (сравнения) относительно 1-й группы (суицидальных попыток). Этот феномен, вероятно, связан с тем, что незавершенная серьезная попытка суицида ведёт к определённому отреагированию травмирующих переживаний. Тем самым у некоторой части суицидентов это приносит временное субъективное облечение тором также присутствуют прокурор, представитель психиатрического учреждения, и представитель больного. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
кризисных фрустраций. В свою очередь это приводит к той или иной переоценке психотравмирующих обстоятельств со снижением остроты тревожных переживаний.
Превалирование же в 3-й группе (сравнения) лиц с пограничными расстройствами, у которых в связи с остротой невротического конфликта субъективное состояние при поступлении в стационар отличалось субъективной тяжестью, указанный механизм снижения тревоги был не выражен, что и проявилось в суммарно большей (но содержательно иной, отличной от групп суицида) напряженности тревожного аффекта.
Таким образом, изолированное применение у исследованных пациентов тестов измерения уровня тревоги и депрессии без раскрытия семантики переживаний не имеет существенного дифференцирующего значения, свидетельствуя об ограниченных возможностях использования этих показателей в качестве индикаторов повышенного суицидального риска.
Значительно более информативные и значимые результаты были получены при использовании прогностических показателей сенсибилизированных тестов: шкалы безнадежности A. Beck и соавт. [9, 13], шкалы суицидального риска [14]. Полученные результаты приведены в таблицах 3 и 4.
Как следует из данных таблицы 3, не обнаружено значимых различий между 1-й и 2-й группами (пресуицида и постсуицида) ни по одному из показателей субъективной оценки риска как состояния безнадежности. Это свидетельствует о том, что показатели шкалы безнадежности не могут надежно дифференциро- вать между собой лиц с реальной опасностью самоубийства. Респонденты 1-й группы, совершившие незавершенную попытку самоубийства, иногда чувствуют себя удовлетворительно при оценке жизненной перспективы, тогда как респонденты 2-й группы нередко переживают глубокую безнадежность с крайне высоким психоэмоциональным напряжением, маркирующими высокий риск самоубийства.
Отмеченный недостаток ещё более отчетливо проявляется в зоне среднего риска, где опросник A. Beck [11, 12], оказался непригодным для различения эмоциональных переживаний (состояний), угрожаемых и не угрожаемых самоубийством. Из таблицы 3 видно, что уровень фрустрационного напряжения в 3-й несуицидоопасной группе сравнения столь же выражен, как и у лиц с явными суицидальными феноменами.
Следует отметить что, к 3-й группе относились лица с невротическими расстройствами, у которых переживания актуального конфликта, хотя и отличались субъективной тяжестью, но их смысловое содержание не было связано с антивитальными мотивами и идеями. Именно поэтому они ни в одном случае не достигали уровня высокого риска, дифференцируя с большой степенью достоверности (p<0,001) лиц с подлинным высоким суицидальным риском и большой вероятностью его реализации. Другими словами, лишь высокие (крайние в градуированной шкале) показатели могут быть учтены не только в качестве маркеров, но и как предикторы высокой угрозы самоубийства.
Таблица 3
Распределение данных шкалы безнадежности А. Бека в группах
|
Группа |
Уровень риска |
|||||||||
|
минимальный |
повышенный |
средний |
высокий |
всего |
||||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|
|
1-я группа |
1 |
4,2 |
1 |
4,2 |
7 |
20,2 |
15 |
62,4 |
24 |
100,0 |
|
(попытки суицида) |
f=5,75; |
р<0,001 |
f=5,29; |
р<0,001 |
f=5,19 р<0,001 |
|||||
|
2-я группа |
0 |
0 |
2 |
7,4 |
6 |
22,3 |
19 |
70,3 |
27 |
100,0 |
|
(суицидальные мысли) |
f=5,75; р<0,001 |
р<0,001 |
||||||||
|
3-я группа (сравнения) |
13 |
52,0 |
7 |
28,0 |
5 |
20,0 |
0 |
0 |
25 |
100,0 |
|
Итого: |
14 |
18,42 |
10 |
13,16 |
18 |
23,68 |
34 |
44,74 |
76 |
100,0 |
Результаты применения шкалы суицидального риска W. Patterson и соавт.
Таблица 4
Показатель
|
Группа |
средний балл |
n |
низкий риск |
средний риск |
высокий риск |
очень высокий риск |
||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|||
|
1-я (попытки суицида) |
9,78 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
100,0 |
|
f=3,65; р<0,01 |
||||||||||
|
2-я (суицидальные мысли) |
8,11 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
37,0 |
17 |
62,9 |
|
3-я (сравнения, без суицидальных проявлений) |
2,98 |
25 |
18 |
72,0 |
7 |
28,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели же минимального суицидального риска надежно отграничивают (p<0,001) состояния, лишенные реальной суицидальной угрозы.
Таким образом, только крайние показатели шкалы A. Beck [11, 12] дают относительно надежную опору для прогнозирования суицидальной угрозы.
Средние значения шкалы лежат в зоне диагностической неопределенности. Они обязательно требуют продолжения исследования другими методами до получения надежного однозначного результата оценки степени суицидальной угрозы.
По этой причине в качестве дублирующего объективного средств исследования нами была использована шкала суицидального риска W. Patterson и соавт. [14]. Результаты применения этого теста представлены в таблице 4.
Как следует из полученных данных, тест Паттерсона (Patterson W. и соавт. [14]) более четко дифференцирует исследованные группы, причем в зоне высокого и очень высокого риска достоверно (p<0,01) отграничивает лиц с незавершенными суицидальными попытками от пациентов с суицидальными мыслями и планами, нуждающихся в госпитализации. Вместе с тем зона высокого риска надежна лишь в отношении исследованных 2-й группы (когорта пресуицида ). Лиц, совершивших суицидальные попытки (когорта постсуицид а), тест не дифференцирует от пациентов с невротическим конфликтом из несуицидальной группы сравнения.
Таким образом, применение шкал суицидального риска обладает рядом конструктивных ограничений. Применение этих шкал дает ценную ориентацию в суицидальной проблеме, позволяет установить её наличие и тяжесть, но не раскрывает её суть, семантическое смысловое содержание. Применение шкал возможно лишь при искреннем согласии пациента неформально сотрудничать с клиницистом и психологом, и пригодно преимущественно для предварительной оценочной ориентации психотерапевта, как при построении программы психологической коррекции, так и при мониторинге получаемого лечебного эффекта. Результаты применения шкал становятся полностью валидными лишь при выявлении в процессе психотерапии смысловой основы суицидальных переживаний пациента, их содержательной динамики. На основании своего опыта работы с суицидальными контингентами считаем необходимым обратить внимание на следующие феномены и закономерности, раскрывающие содержание суицидальных переживаний пациентов, включенных в выделенные для изучения и психологической коррекции группы.
В группе высокого риска лиц, совершивших попытки самоубийства, на передний план выступают ригидное сохранение установки на самоповреждающее поведение, компульсивные действия антивитальной направленности, навязчивые мысли суицидального содержания, демонстративные угрозы окружающим, проявления вербальной агрессии. Имеется тенденция к совершению действий угрожающего харак- тера с доминирующей мыслью о самоубийстве. В процессе работы с психотерапевтом обращает внимание недоступность и/или сопротивление при выработке антисуицидальных барьеров, попытках смягчения (изменения) антиви-тальных переживаний.
Группа высокого риска лиц с суицидальными мыслями характеризуется иной феноменологической картиной. Ярко выражены проявления острого стресса, фрустрации значимых базовых потребностей, высокое внутреннее напряжение, охваченность переживаниями острого горя, потери с доминированием содержания психической травмы в сознании, оценкой сложившейся ситуации как безвыходной. Антивитальные тенденции представлены желанием смерти, но пассивным, проявляющимся преимущественно на идеаторном уровне («заснуть и не проснуться», «кто бы меня убил»). Сохраняются антисуицидальные тенденции («детей жалко», «не доставлю удовольствия этому подлецу»).
В группе среднего риска у лиц с суицидальными мыслями доминируют нарушения сна с кошмарными антивитальными сновидениями. В сознании часто возникают сцены смерти и самоубийств. При этом образы носят отстраненный характер, собственное «Я» не включено в переживания и не связывается с личной ситуацией. Имеется стремление к анализу своих антивитальных мыслей и настроения посредством чтения соответствующей литературы. Сохраняется повышенная импульсивность поведения.
Для лиц группы сравнения с низким суицидальным риском были типичны отдельные кратковременные антивитальные переживания («что за жизнь, нет просвета»), стойкое снижение настроения, синдром ангедонии. Имела место акцентуация личности истеровозбудимо-го типа.
Как видно из представленных результатов, тревога и депрессия, взятые вне рамок шкал суицидального риска, надежно не дифференцируют группы, причем тревога нередко уменьшается по мере нарастания тяжести суицидальных феноменов – перехода от замыслов к их реализации. По-видимому, снижение уровня тревоги на этапе реализации самоубийства – есть следствие окончательного принятия фатального внутреннего решения, сформиро- ванного нового отношения к жизни и окружению, утраты надежды на помощь социума, развития своеобразного паралича экзистенциальных эмоций в виде переживания безнадежности и социальной отстраненности. На это, в частности, указывает рост показателей суицидального риска, отражающих, согласно трактовке А. Бека [11, 12], состояние глубокого пессимизма, переживание безнадежности. И в этом качестве низкий уровень тревоги в сочетании с безнадежностью и социальной изоляцией должен быть расценен как неблагоприятный прогностический признак, маркер повышения риска самоубийства, утяжеления анти-витальной трансформации личности.
Содержательный анализ рассмотренных характеристик может быть дан при совместном с пациентом разборе положений Шкалы суицидальных мыслей A. Бека [13, 15]. Наиболее информативные для коррекции суицидального поведения данные были получены при обсуждении темы «Сдерживающие факторы» (семья, религиозные убеждения, возможность инвалидизации в случае безуспешной попытки, необратимость поступка и др.). Смысловая семантика этих базовых понятий в сознании пациента раскрывает уровень его контроля над суицидальными тенденциями. При обсуждении этой темы значимые высказывания большинства исследованных лиц с попытками самоубийства были оценены как свидетельствующие об их сниженном контроле над суицидальным поведением.
Маркером суицидального риска выступало отсутствие указаний на личностные ценности, которые могли бы удержать от суицида. Назывались лишь актуально блокированные (фруст-рируемые) смыслы, ответственные за предпринятую попытку самоубийства или сформировавшие серьезные суицидальные намерения.
Некоторые сдерживающие факторы оценивались как знаемые ценности, формально свойственные другим людям, но не существенные для респондентов. Все это означает, что смысловые барьеры для реализации суицида не присутствовали в сознании исследуемых лиц.
Следует признать, что применение шкалы суицидальных мыслей А. Бека особенно показано при отрицании суицидальных мыслей в период стационарного обследования. Её результаты позволяют установить отсутствие или смысловую недостаточность сдерживающих самоубийство личностных факторов, то есть дают возможность косвенно объективировать латентную угрозу рецидива суицидальной активности.
В более надежной форме вскрыть глубинные маркеры суицидального риска, практически недоступные выявлению при работе психотерапевта с сознанием пациента и его верба-лизируемыми переживаниями, позволяют метод портретных выборов Л. Сонди [16, 17] и метод цветовых выборов М. Люшера [18], ориентированные на раскрытие глубинной психодинамики личности, ее базовых влечений.
Проведенное исследование позволяет заключить следующее:
-
- Подтвержден высокий ранг депрессии и депрессивных переживаний как наиболее важных клинико-психологических состояний, определяющих риск самоубийства. Указанная зависимость была свойственна всему контингенту лиц с суицидальной активностью. Она с высокой достоверностью определяла наиболее значимую составляющую высокой опасности самоубийства депрессивных больных кризисного стационара.
-
- Тревожный компонент невротических депрессивных расстройств выступал как клинически нейтральный признак, заметно не отягчающий суицидальную опасность смешанного состояния.
-
- Применение шкал суицидального риска обладает рядом конструктивных ограничений.
Список литературы Психодиагностика суицидального риска как критерий недобровольной госпитализации психически больных в системе профилактики их общественно опасного поведения
- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности//Актуальные вопросы суицидологии. -М., 1978. -С. 6-28.
- Айсаев А.Т. Сравнительная характеристика психически больных с однократными и повторными общественно опасными деяниями (по данным отдаленного катамнеза)//Российский психиатрический журнал. -2003. -№ 1. -С. 56-59.
- Wasserman D. ed. Suicide-ап unnecessary death. -London: Martin Dunitz Publishers, Taylor & Francis Group-2001. -P. 1-305.
- Preventing suicide: a global imperative/Geneva: World Health Organization, 2014.
- Blum R.W., Ireland M. Reducing risk, increasing protective factors: Findings from the Caribbean Youth Health Survey//Journal of Adolescent Health. -2004. -Vol. 35. -P. 493-500.
- Положий Б.С. Концептуальная модель суицидального поведения//Суицидология. -2015 -Том 6, № 1 (18). -С. 3-7.
- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. Методические рекомендации: М., 1980 -45 с.
- Войцех В.Ф. Клиническая суицидология. -2007 -195 с.
- Beck А.Т., Ward C.H., Mendelson M. et al. An inventory for measuring depression//Arch. Gen. Psychiatry. -1961. -Vol. 4. -P. 561-571.
- Beck A.T., Steer R.A. Beck Anxiety Inventory Manual. -San Antonio, TX: The Psychological Corporation Harcourt Brace & Company, 1993.
- Beck A., Weisman A., Lester D., Trexler L. The measurement of pessimism: the hopelessness scale//J. Consult. Clin. Psychol. -1974. -Vol. 42. -P. 861-865.
- Beck A.T., Kovacs M., Weissman A. Hopelessness and suicidal behavior. An overview//JAMA. -1975. -Vol. 234. -P. 1136-1139.
- Beck A.T., Steer R.A. Beck Scale for Suicide Ideation (BSS). -Manual, 1991.
- Patterson W.M., Dohn H.H., Patterson J. et al. Evaluation of suicidal patients: the sad persons scale//Psychosomatics. -1983. -Vol. 24, № 4. -P. 343345, 348-349.
- Beck A.T., Freeman A., Davis, D.D. Cognitive Therapy of Personality Disorders. The Guilford Press, 2003.
- Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений. -М.: Когито-Центр, 2005.
- Сонди Л. Судьбоанализ. -М.: Три квадрата, 2007. (Bibliotheca Hungarica)
- Lüscher Max: Der Lüscher-Test. Persönlichkeitsbeurteilung durch Farbwahl. Rowohlt, Reinbek, 1985.