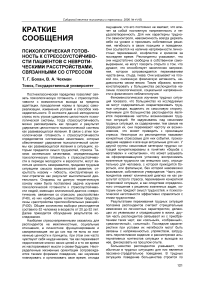Психологическая готовность к стрессоустойчивости пациентов с невротическими расстройствами, связанными со стрессом
Автор: Бохан Т.Г., Чехман В.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Краткие сообщения
Статья в выпуске: 4 (42), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295154
IDR: 14295154
Текст краткого сообщения Психологическая готовность к стрессоустойчивости пациентов с невротическими расстройствами, связанными со стрессом
Томск, Государственный университет
Постнеклассическая парадигма позволяет связать психологическую готовность к стрессоустой-чивости с возможностью выхода за пределы адаптации, преодоления нормы в процесс самореализации, изменения условий и способов жизнедеятельности. В контексте данной методологии стресс есть угроза удержанию целостности психологической системы, тогда стрессоустойчивость можно рассматривать как процесс и результат удержания целостности психологической системы как развивающегося явления. В связи с этим психологическая готовность к стрессоустойчивости определяется системными качествами, которые обеспечивают удержание психологической системы как развивающегося явления в ситуациях, которым придается смысл трудностей, стресса. Такими системными качествами, определяющими психологическую готовность к стрессоустойчиво-сти в периоде молодости и взрослости, могут являться ценность саморазвития, придание трудным ситуациям смысла возможностей развития, открытость новому - гибкость, конструктивные копинг-стратегии как результат мыслительной деятельности. Опираясь на данную теоретическую основу нами была поставлена задача изучения психологической готовности к стрессоустойчиво-сти людей, имеющих клинический диагноз «невротические, связанные со стрессом, расстройства» (F40), из них наибольшим количеством представлены «расстройства приспособительных реакций» (F430). Общее количество выборки респондентов составило 52 человека в возрасте от 20 до 52 лет. Далее приводится обсуждение результатов исследования.
Наиболее стресснапряженными оказались для респондентов не межличностные, социальные отношения, а личностное функционирование и самореализация: им до сих пор не ясны их жизненные ценности и принципы, при этом они часто чувствуют себя неудачниками, так как переживают недостижение многих своих целей и в то же время их настораживают мысли о своем будущем. Неопределенные жизненные ориентации сопровождаются такими формами поведения, как неумение планировать и организовать свое время, отсюда ощущение, что его постоянно не хватает, что влечет за собой постоянную напряженность и неудовлетворенность. Для них характерны трудности самоконтроля, невозможность всегда держать себя на уровне и принимать собственные решения, негибкость в своих позициях и поведении. Они ссылаются на наличие напряженности личностных переживаний, конфликтов и кризисов за последнее время. Респонденты указывают, что они недостаточно свободны в собственном самовыражении, не могут говорить открыто о том, что думают, что способствует накоплению напряжения, которое сопровождается переживанием чувств вины, стыда, гнева. Они указывают на плохой сон, сниженную физическую активность, недовольство своим весом. Таким образом, можно констатировать у большинства респондентов наличие психологической, социальной напряженности и физического неблагополучия.
Феноменологическое изучение трудных ситуаций показало, что большинство из исследуемых не могут содержательно охарактеризовать трудные ситуации, выделить их смысловую сторону. Значимым для большинства респондентов является переживание частоты возникновения трудных ситуаций. Не задумываясь над смыслами трудных ситуаций, их содержанием, тем самым не разрешая их, они переживают частоту их возникновения, что может приводить к хронизации стресса. Некоторые из респондентов называют конкретные стрессовые для них события, произошедшие недавно и все еще актуальные для них. У другой группы смысловые категории трудных ситуаций конкретизированы в понятиях «борьба с негативом» и «испытание», что может указывать на сформировавшуюся установку воспринимать жизненные трудности как внешнюю силу, отрицательную для человека, с которой приходится бороться, или фатальную, без которой невозможно выживание, собственное утверждение. Часть респондентов имеют клинический диагноз не как результат острого стресса, переживания конкретной стрессовой ситуации, а как следствие определенного отношения к решению жизненных задач, которым они придают смысл трудностей, и психологической неготовности эффективно справляться с этими трудностями.
Результатами переживания трудных ситуаций половина респондентов считают отрицательные изменения их личностных характеристик, делающих их уязвимыми и страдающими в жизни, другая часть респондентов связывают их с приобретением таких черт, как «сильный», «собранный», «реалистичный», «опытный». Последние характеристики при условии их негибкости могут быть связаны с напряженностью, упрямством, затруднять перспективное видение и рассмотрение альтернативных контекстов ситуации и выходов из нее, фиксировать на прошлом опыте.
Большинство респондентов указывают, что обычным в трудных ситуациях для них является пассивно-страдательное поведение. В трудных ситуациях поведение большинства строится по типичной схеме: первичная установка на любые трудности как на угрозу личности, отсюда возникает смысл оградить себя от трудностей, и если не удается, не получается, то возникает смысл использования поведения, сформированного на более ранних этапах онтогенетического развития, при которых ответственность и сила перекладываются на «враждебную» среду, снимается собственный контроль и остается поведение «бессильной жертвы обстоятельств», где нет места поиску, открытости новому взгляду на трудности на собственную роль в их формировании и преодолении: «плачу», «теряюсь», «раздражаюсь», «становлюсь бессильной» и т. д. Пассивнострадательное поведение сопровождается у большинства (73 %) респондентов отрицательными чувствами, в то же время некоторыми указываются чувства, которые активизируют человека. В трудных ситуациях практически у всех (93 %) доминируют отрицательные состояния. Считая важным наличие социальной поддержки в реальной жизнедеятельности, они не могут воспользоваться данной стратегией для совладания, в этом у них проявляется конфликт стремлений. По их мнению, в трудных ситуациях им необходимы саморегуляция своих эмоциональных состояний, самостоятельные действия, умение самостоятельно собраться с мыслями, быть уверенными в себе.
Оценка особенностей копинг-стратегий в реальной жизнедеятельности респондентов подтвердила феноменологические данные. Так, когнитивно оценивая ситуацию, большинство респондентов проявляют растерянность и смирение, не придают трудным ситуациям смысл возможностей для собственного развития, не используют проблемный анализ и не проявляют диссимиляции. Эмоциональное «совладание» у многих происходит за счет эмоциональной разгрузки - слезы, аутоагрессия в виде самообвинения или агрессии, направленной на других. Таким образом, подтверждается наше предположение о том, что если эмоция, сигнализирующая о смысле ситуации, не направляется в конструктивное русло - на понимание этого смысла, внутреннюю работу по построению нового смысла более высокого порядка и новых действий по его реализации, то она направляется на защиту, закрывая человека как психологическую систему, что находит свое выражение в самообвинении, агрессии и прочих саморазрушительных формах поведения. Многие респонденты при встрече с трудностями уже настроены пессимистично. Поведение в трудных ситуациях характеризуется ими такими неадаптивными стратегиями, как активное избегание, отвлечение и отступление. На наш взгляд, использование этих стратегий подтверждает вышеприведенное рассуждение о том, что переживание частоты трудностей, не вникая в их смысл, установка на отрицательные последствия трудных ситуаций для личности, неадекватность и неус-пешность пассивно-страдательных стратегий совладания, снятия с себя ответственности и контро- ля, отсутствие волевых усилий порождают смысл защитных стратегий: активного избегания трудностей, отвлечения от них, отступления, что не позволяет выходить на новые параметры собственного развития, а ведет к саморазрушению, которое наблюдается в симптомах расстройства. В поведении они, несмотря на то что считают важным необходимость социальной поддержки в трудной ситуации, игнорируют стратегию сотрудничества. Вероятно, в силу того, что выстраиванию отношений с людьми, при обращении за помощью и поддержкой, готовности принять ее, они придают смысл трудностей. Они указывают на невостребованность ими конструктивной активности, хотя и считают ее необходимой в совладании с трудностями. Свое напряжение они не склонны компенсировать за счет различных способов поведения. Преобладание неадаптивных копинг-стратегий в когнититивной, эмоциональной и поведенческой сферах в виде триады «растерянность - эмоциональная разгрузка - активное избегание» и неиспользование в трудных ситуациях таких копинг-стратегий, как придание трудностям смысла возможностей собственного развития, проблемного анализа, оптимизма, сотрудничества и конструктивной активности может свидетельствовать о низком уровне психологической готовности к стрессоустойчивости у данных респондентов.
В особенностях самореализации данной группы респондентов мы замечаем, что ценности саморазвития и самореализации представлены незначительно, альтруистические ценности связаны с заботой о близких им людям и не имеют общественной направленности, доминируют эгоцентрические ценности и ценности карьерного роста. Большинство из исследуемых находятся в ситуации профессиональной неопределенности, вызванной желанием смены профессии. У других характер самореализации представлен репродуктивным типом, связанным с актуальными ситуативными смыслами, вызванными нереализованными потребностями. Отдельные респонденты ссылаются на стремление к профессиональному саморазвитию и совершенствованию. Однако, анализируя их планы и этапы в отношении достижения цели, можно заметить, что часто они не соответствуют цели, ограничены одним или двумя этапами, т. е. нет четкого представления об их реализации, что, на наш взгляд, вновь не позволит им перейти к реальной деятельности, выводящей их в новый образ жизни и удовлетворяющей их стремления, замыкает их в тех условиях жизнедеятельности, которые они переживают как трудные. Полученные нами данные свидетельствуют о низком уровне психологической готовности исследуемых респондентов к стрессоустойчиво-сти, как возможности удержания своей целостности, идентичности, как развивающегося явления в трудных ситуациях. Выделение параметров психологической готовности к стрессоустойчивости задает возможные направления психологической коррекции.