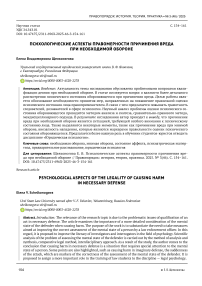Психологические аспекты правомерности причинения вреда при необходимой обороне
Автор: Щелконогова Е.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Теория и практика противодействия преступности
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: Актуальность темы исследования обусловлена проблемными вопросами квалификации деяния при необходимой обороне. В статье исследуется вопрос о важности более детального рассмотрения психического состояния обороняющегося при причинении вреда. Целью работы является обоснование необходимости принятия мер, направленных на повышение правильной оценки психического состояния лица правоприменителем. В связи с чем предлагается повышать грамотность следователей, дознавателей в сфере психологии. Научный анализ проблемы оценки психического состояния обороняющегося проводится методом анализа и синтеза, сравнительно-правового метода, междисциплинарного подхода. В результате исследования автор приходит к выводу, что причинение вреда при необходимой обороне является ситуацией, требующей особого внимания к психическому состоянию лица. Также выделяются некоторые моменты, такие как причинение вреда при мнимой обороне, внезапность нападения, которые являются маркерами правильности оценки психического состояния обороняющегося. Предлагается более важную роль в обучении студентов-юристов отводить дисциплине «Юридическая психология».
Необходимая оборона, мнимая оборона, состояние аффекта, психиатрическая экспертиза, предварительное расследование, юридическая психология
Короткий адрес: https://sciup.org/14134031
IDR: 14134031 | УДК: 34.343.01 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-154-161
Текст научной статьи Психологические аспекты правомерности причинения вреда при необходимой обороне
Право гражданина на причинение вреда нападающему лицу при посягательстве на охраняемые ценности является неотъемлемым естественным правом каждого человека. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 1. В судебноследственной практике актуальным и дискуссионным является вопрос о том, был ли вред, охраняемым уголовным законом интересам, причинен в состоянии необходимой обороны. В связи с возникающими сложностями в установлении данных обстоятельств, Пленум Верховного Суда РФ в 2012 году вынес постановление с разъяснением спорных вопросов о применении данной нормы. А в 2022 году постановление было дополнено новыми положениями. Некоторые из них касались вопроса о начале посягательства, возникновении у гражданина права на защиту.
Одним из проблемных вопросов при установлении обстоятельств необходимой обороны является момент определения начала и окончания посягательства. Более того, данный момент должен быть установлен в первую очередь лицом, защищающимся от нападения . Именно от данного факта будет зависеть правомерность его действий. Впоследствии правоприменитель, выясняя обстоятельства причинения вреда, также одним из главных моментов будет изучать вопрос о том, как воспринималась сложившаяся ситуация обороняющимся в момент нападения.
Материал и методы
В статье использованы нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы изучения необходимой обороны, обстоятельств, исключающих преступность деяния, понятия преступления, специальная литература по предмету исследования. Основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы научного познания, анализ теоретических и нормативных правовых источников, метод анализа, сравнительноправовой метод.
Описание исследования
Оценка психического состояния лица в момент причинения вреда
Проблематика установления правомерности причинения вреда при необходимой обороне не раз поднималась учеными-правоведами в литературе. Так, например, В. В. Меркурьев и И. А. Тараканов говорят о сложностях оценки правоохранительными органами оборонительных действий от посягательств, связанных с незаконным проникновением в жилище. В связи с чем ученые предлагают дополнить п. 3 постановления Пленума № 19 открытым перечнем признаков, свидетельствующих о наличии реальной угрозы посягательства [4, c. 22, 23].
Также вопросы оценки действий обороняющегося в аспекте правильности восприятия им нападения или его угрозы выразились в том, что в 2003 году статья 37 Уголовного кодекса РФ 2 была дополнена частью 2.1. Данное положение указывает, что не является превышением пределов необходимой обороны причинение большего вреда нападающему вследствие неожиданности посягательства, что влечет невозможность лица объективно оценить степень и характер опасности нападения. Верховный Суд РФ, давая разъяснение указанной норме в п. 4 постановления «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 3, указывает на необходимость выяснять как объективные признаки нападения, то есть время (например, ночное), место нападения, обстановка, способ посягательства, предшествующие события, так и субъективные признаки. Субъективные признаки в данном случае подразумевают не субъективную сторону состава преступления нападающего лица, а субъективное отношение к происходящему обороняющегося. В постановлении приводятся такие чувства, как состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения, перечень не является закрытым.
В п. 13 постановления Пленума ВС РФ № 19 приводится перечень обстоятельств, который должен оценить правоприменитель, чтобы ответить на вопрос о превышении пределов необходимой обороны. В данном перечне указываются различные обстоятельства, однако они относятся исключительно к объективной стороне происходящего (объект, способ посягательства, время место и др.). Данный факт подчеркивает, что более важное значение при оценке обстоятельств уделяется именно объективным признакам, хотя субъективные признаки имеют немаловажное значение. Положительным моментом является то, что данный перечень открыт, и указано, что и иные обстоятельства могут быть учтены. В данном случае к иным обстоятельствам могут относиться именно субъективные признаки причинения вреда, психическое состояние лица. Оценка данных признаков должна производиться с учетом психологических категорий, таких как темперамент, скорость возникновения реакций, уровень интеллекта. А также испуг, страх, замешательство, скорость протекания реакций. Темперамент обусловлен врожденными свойствами нервной системы и задает форму, в которой проявляются такие характеристики личности, как интересы, взгляды, убеждения 1. Скорость возникновения реакций включает такие понятия как темп речи, частоту мыслительных процессов в конкретный отрезок времени. Данная характеристика особенно важна при внезапности нападения, когда лицо может не в полной мере оценить опасность. Возможность такой оценки во многом будет зависеть от скорости мыслительных реакций. Испуг — это рефлекторная реакция на потенциальную угрозу. В состав данной реакции может входить вздрагивание, расширение зрачков, застывание тела, ощущение холода, мочеиспускание. Испуг не является синонимом страха, т. к. страх — это чувство. Испуг, помимо страха, может сопровождаться паникой, собранностью, агрессией. Испуг вызывается сверхсильным раздражителем, угрожающей жизни ситуацией. При этом роль играет не физическая мощность раздражителя, а психологически-личностная значимость психической травмы. Чаще наблюдается у лиц со слабым типом нервной системы и с недостаточной подвижностью психических процессов2. Замешательство — это эмоциональное состояние, характеризующееся временной потерей ясности мышления и способности принимать решения. Это естественная реакция мозга на ситуации, когда поступающая информация не соответствует имеющимся схемам восприятия или противоречит предыдущему опыту 3. В ситуации нападения одной из реакций лица может стать замешательство, особенно при слабом типе нервной системы. Такая реакция может увеличить возможности нападающего достигнуть своей цели и снизить оборонительные способности лица.
Рассмотрение данных категорий приводит к выводу, что чем более жизнестойкой и стрессоустойчивой является психика лица, на которое нападают, тем с большей вероятностью ему удастся совершить успешные оборонительные действия в отношении нападающего. Проблема состоит в том, что психические характеристики формируются при созревании плода и в детстве, то есть в малой степени зависят от самого человека, а больше от генетики, наследственности, биологических процессах при созревании, рождении и развитии человека. В целях повышения своей жизнестойкости лицо может обращаться за моральной поддержкой и помощью к родственникам, друзьям, колле- гам. Состоять в сообществах по интересам, иметь хобби, обращаться в группы психологической помощи. Эти меры могут быть приняты в течение жизни человека, а не столько в момент нападения на него. Однако поддержка других людей повышает уровень уверенности человека в своих силах, что может сыграть ключевую роль в экстремальной ситуации нападения.
Думается, что более пристальное внимание к эмоциональному состоянию обороняющегося лица в момент нападения на него позволило бы достовернее установить и разграничить вопросы о правомерных действиях при защите от нападения, превышении пределов необходимой обороны и умышленном причинении вреда.
Рассматриваемая проблема изучается не только учеными-юристами, но и с психологической точки зрения учеными в области психиатрии. В частности, доктором медицинских наук И. А. Кудрявцевым в статье «Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы состояния необходимой обороны» [2, c. 33] указывалось на крайнюю скудность психологических дефиниций, которые были использованы законодателем при конструировании ст. 37 УК РФ. Также, описывая причинение большего вреда при внезапности нападения, ученый одним из факторов называет импульсивное поведение лица. И. А. Кудрявцев предлагает обращать особое внимание на индивидуальнопсихологические особенности обвиняемого. Исходя из реалий того, что правоприменитель не получает дополнительного образования психолога, психиатра, важно опираться на те возможности, которые у него имеются. В частности, на наш взгляд, важную роль в повышении психологической грамотности будущего следователя может сыграть дисциплина «Юридическая психология». Данная дисциплина, как справедливо отмечает Л. В. Левицкая, выполняет важную функцию внедрения в систему «человек-право» психологических знаний [3, c. 6]. Автор выделяет такие важные характеристики личности, как темперамент — скорость, изменчивость, интенсивность деятельности человека, характер — типичные способы реагирования личности на жизненные обстоятельства, ценностная система — какие потребности стремится удовлетворять человек и какие способы достижения цели признает, способности — свойства памяти, воображения, мышления.
Л. В. Левицкая говорит о существовании в психологии двух подходов к определению психологической структуры личности: элементалистский и холистский. Первый подход представляет собой совокупность оценок человека по различным параметрам (характеру, возрасту, общественному положению и др.). Холистский подход, который разделяли З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, утверждает, что поведение человека можно объяснить только путем изучения индивида как единого целого. Представляется, что в следственной практике подход, который берется за основу при определении психического состояния лица при необходимой обороне, можно описать как элементалистский. Л. В. Левицкая отмечает, что данный подход более скуден и менее точен для достижения цели: более достоверной оценки состояния лица. Она также приводит высказывание А. Ф. Зелинского о том, что рассмотрение структуры личности преступника как совокупности социальнодемографических признаков представляет собой перечень разноплановых свойств людей, и в нем нет ничего структурного [3, c. 43, 44]. Вместе с тем говорится о том, что, хоть холистский подход более глубокий по своему содержанию, на сегодняшний день используется элементалистский подход как более прагматичный, удобный для применения, в том числе по временным и трудовым ресурсам.
В 2019 году Верховным Судом был составлен обзор судебной практики по вопросам применения норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Верховный суд указал на то, что для установления пределов необходимой обороны, наряду с объективными обстоятельствами, судом принимались во внимание возможность обороняющегося объективно оценить степень и характер угрожающей ему опасности, а также возможность определить момент прекращения посягательства. Как пример приводится приговор Мурманского областного суда от 12.12.2016 г., по которому М. был оправдан по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ в соответствии со ст. 37 УК РФ. Одним из аргументов было признано то, что охотничий инспектор М. опасался за жизнь и здоровье свою и малолетнего сына в ответ на действия Н., А. и Т., которые отказались подчиниться его законным требованиям, а также произвели выстрел в сторону М. Важным моментом является то, что Верховный Суд РФ обращает внимание на форму вины, с которой обороняющееся лицо причиняет вред посягающему 1.
Исходя из этого, оценка психического состояния лица при отражении посягательства имеет важное значение в каждом из возникающих на практике случаев. Степень этой важности можно оценить, рассмотрев те ситуации необходимой обороны, в которых оценка субъективного состояния обороняющегося выступает на первый план. В частности, это:
-
1) ситуация внезапного нападения, описываемая в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ;
-
2) состояние мнимой обороны, при которой обороняющийся не осознает отсутствие посягательства. Данный вопрос затронут в п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 19;
-
3) состояние душевного волнения, вызванного посягательством, вследствие чего обороняющийся не всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства. Данное состояние отлично от состояния аффекта, что описывается в пп. 14, 15 постановления Пленума ВС РФ № 19.
Важно отметить, что помимо правильного определения начала посягательства как самим обороняющимся, так и впоследствии правоохранительными органами, важно установление и момента его окончания. В данном случае опять же ключевую роль играет психическое состояние обороняющегося в сложившейся ситуации. Представляется маловероятным, что человек при нападении на него будет находиться в совершенно спокойном состоянии. В любом случае ситуация вынуждает его действовать и каким-то образом внутренне относиться к нападению, что и проявляется в его действиях. Здесь важна не только сама обстановка нападения (время суток, улица или помещение, освещенность места нападения, присутствие третьих лиц), но и психо-физиологические особенности обороняющегося. В основном в юридической литературе, а также в постановлении Пленума ВС РФ указывается на такие характеристики, как пол, возраст, физическое состояние. Но не менее важным является темперамент лица, его характер, возбудимость, скорость возникновения эмоций, реакций на окружающую действительность. Если обратиться к основным психологическим характеристикам, то холерик и, например, флегматик по-разному будут реагировать на какую-то ситуацию. В связи с чем момент окончания нападения может восприниматься человеком не всегда однозначно. В идеале, конечно, наилучшей является ситуация, когда совпадают момент окончания посягательства и осознания этого обороняющимся, в связи с чем он прекращает оборонительные действия. Однако на практике далеко не всегда складывается такая ситуация, а именно, обороняющийся не осознает, что посягательство закончилось и продолжает оборонительные действия. Данный случай можно назвать 4-м пунктом в списке ситуаций, в которых важную роль играет именно психологический фактор. Важность заключается в том, что от осознания прекращения посягательства зависит квалификация и решение органов по данному делу. Если лицо осознавало, что нападение окончено, то необходимая оборона не может быть признана правомерной, если же он добросовестно заблуждался относительно этого, то причиненный вред может быть признан непреступным по ст. 37 УК РФ.
В аспекте несовпадения моментов окончания посягательства и защиты также можно указать ситуацию, когда нападающий приостановил свои действия, чтобы усилиться (вооружиться, позвать сообщников и др.), в таком случае право на оборону у лица сохраняется. Главное, чтобы он осознавал, что посягательство продолжится в ближайшее время.
Оценка действий обороняющегося в правоприменительной практике
Если ориентироваться на то, как оценивается субъективная сторона состава преступления правоприменителем, то, с одной стороны, отчасти берется во внимание моральное состояние лица, например, его предшествующие отношения с потерпевшим. Об этом указывает п. 3 постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 1. В то же время в этом же пункте указывается, что отграничение ч. 1 ст. 105 УК РФ от ч. 4 ст. 111 УК РФ следует производить и по объективным обстоятельствам, таким как орудие, способ совершения преступления, ранение жизненно важных органов. На наш взгляд, при квалификации преступления необходимо больше внимания уделять психическому состоянию лица в момент его совершения. В данном случае формулировка «большего внимания», с одной стороны, подразумевает необходимость конкретного учета психических особенностей как самого лица, так и его состояния в конкретной ситуации необходимой обороны. С другой стороны, более точная формулировка, на наш взгляд, уменьшает сферу возможного ее (формулировки) использования в том плане, что в связи с отнесением российской правовой системы к романо-германской правовой семье, а не к прецедентному праву, исключение принципа обобщенности приведет к неоправданному расширению как самого текста уголовного закона, так и нарушению принципов построения законодательства, присущих континентальной системе права. Конечно, сложность установления его состояния зависит в том числе от того, что событие уже произошло, и с момента события до момента разбирательства прошло значительное время. Хотя наличие, например, камер видеонаблюдения облегчает эту проблему. Однако камера видеонаблюдения фиксирует опять же проявление больше объективной стороны, нежели субъективных моментов.
Немаловажную роль в установлении психического состояния лица в момент причинения вреда играет беседа (допрос, опрос) с данным лицом уполномоченными сотрудниками. Но и в этом случае установление достоверности полученных пояснений может вызывать сомнения. Опрашиваемый может сообщать недостоверные данные о своем состоянии в момент причинения вреда, излагая более выгодную для него версию произошедшего. Лицо может воспользоваться правом гражданина согласно ст. 51 Конституции РФ: лицо вправе не свидетельствовать против себя и своих близких 2. Беседа с лицом правоохранительных органов, который может вынести обвинительное заключение в отношении данного человека, также может не мотивировать его к изложению правды. Возникает вопрос, могут ли быть такие случаи, что лицо все-таки сообщит правдивые сведения следователю. Такие случаи могут быть, в первую группу можно отнести ситуации, закрепленные законодательно, когда лицо при явке с повинной и помощи следствию облегчает свою участь. Такие ситуации закреплены в главе 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности», например, ст. 75 пред- усматривает, что преступное деяние может перестать быть общественно опасным при соблюдении ряда условий, в том числе явке с повинной, способствовании расследованию преступления и возмещению причиненного вреда.
Также главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 3 предусматривается особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ говорится, что подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения с момента начала уголовного преследования и до объявления об окончании предварительного следствия. В ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия расследованию преступления. В результате данных действий согласно ч. ч. 1, 2, 4 ст. 62 УК РФ, существенно могут быть уменьшены сроки и размеры наказания.
Таким образом, стремясь облегчить наказание за совершенное деяние, лицо может сообщать правдивые сведения в ходе следствия, что будет способствовать более эффективному расследованию и правильной квалификации деяния. Вопрос о том, насколько данные меры способствуют целям наказания, таким как превентивное воздействие, восстановление социальной справедливости, остается неоднозначным. Также лицо может, искренне раскаявшись в содеянном, сообщить правдивые сведения о случившемся следователю.
Нередко в приговорах об умышленном причинении какого-либо вреда здоровью или жизни человека встречается ситуация, когда сторона защиты ходатайствует о том, что вред был причинен в состоянии необходимой обороны, однако судом данное утверждение отклоняется и указывается на умышленные характер содеянного. Нельзя сказать, чтобы такое решение было полностью ошибочным. Речь идет о повышении правильности оценки причинения вреда при необходимой обороне. Стоит ли говорить об огромной разнице между освобождением лица по ст. 37 УК РФ и привлечением его к ответственности за умышленное причинение вреда? А ведь данное решение суда базируется в первую очередь на оценке психического состояния обвиняемого в момент причинения вреда. Как мы описывали ранее, такая оценка формируется в большей степени из описания фактов и объективных данных (например, количество, локализация наносимых ударов), а не на психической оценке состояния лица, что может не в должной мере отражать истинную картину его состояния.
Обратить внимание следует еще и на то, кем производится такая оценка. Психическое состояние лица оценивается на предварительном следствии следователем, дознавателем, а в судебном разбирательстве — судьей. То есть лицами с юридическим, но не медицинским образованием соответствующего профиля (психиатр, психолог). Обратившись к УК РФ, можно отметить, что оценка психического состояния лица играет ключевую роль при назначении принудительных мер медицинского характера, при оценке «возрастной» невменяемости лица, то есть, когда психический возраст лица отстает от физического и это влияет на возможность привлечения его к уголовной ответственности, назначении принудительных мер воспитательного воздействия. Также причинение вреда в состоянии аффекта (например, ст. 107 УК РФ) является одним из преступлений, требующим более детального доказывания определенного психического состояния лица в момент причинения вреда. В данных случаях оценка психического состояния лица производится с привлечением врача-психиатра. В остальных случаях такая оценка, производится юристами, а не врачами.
В ч. 1 ст. 195 УПК РФ 1 указывается, что следователь может вынести постановление о судебной экспертизе (в том числе и психолого-психиатрической), признав это необходимым . При этом в статье отсутствуют какие-либо критерии, указывающие на то, что должно побудить следователя назначить такую экспертизу. В данном случае вся ответственность ложится на него, хотя следователь может не назначить экспертизу там, где это необходимо и наоборот. Обратившись к ст. 38 УПК РФ, мы видим, какими полномочиями обладает следователь, например, возбуждать уголовное дело, направлять ход расследования и прочее, данный перечень открыт. Более детальных разъяснений о том, каким образом действует следователь, в частности, в ситуации оценки психического состояния лица, в данной статье нет. В таком случае можно обратиться к общим принципам следственно-судебной работы, закрепленным в главе 1 «Уголовно-процессуальное законодательство» раздела I «Основные положения». В частности, ст. 14 УПК РФ говорит о презумпции невиновности. Часть 4 данной статьи гласит, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, что, на наш взгляд, еще больше обостряет необходимость правильной оценки психического состояния лица при причинении вреда. Речь идет не столько об умышленных незаконных действиях следователя, которые подпадали бы под нормы главы 31 УК РФ, сколько об уровне его компетентности в сфере психологии и психиатрии. Недостаточный уровень может быть вызван чисто объективными причинами, а именно получением юридического, а не медицинского образования. Такие дисциплины, как юридическая психология, криминалистика, уголовно-процессуальное право в некоторой степени дают компетенции по рассматриваемому вопросу, однако они не могут сравниться с компетенцией профессионального врача.
Изложенная проблема касается не только ситуаций необходимой обороны, но и других преступлений, поскольку согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уго- ловной ответственности только за те преступления, в отношении которых установлена его вина. Почему указанную проблематику мы решили рассмотреть именно на примере необходимой обороны? Потому что именно при квалификации наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих преступность деяния, как в теории уголовного права, так и на практике возникает много дискуссионных вопросов, более пристальное внимание уделяется именно субъективной стороне, делается упор (и мы видим это в самом тексте ст. 37 УК РФ и в постановлении № 19) на восприятие обоими лицами происходящих событий (действий). Хотя, безусловно, установление признаков субъективной стороны состава преступления должно производиться при совершении любого преступления, а не только при необходимой обороне. На наш взгляд, рассмотрение проблемы оценки психического состояния лица при необходимой обороне актуально, так как связано с вопросами ее юридической природы. Традиционным в литературе высказывалось мнение об отсутствии некоторых признаков преступления, например, общественной опасности. Однако в последнее время юридическая природа необходимой обороны связывается с особенностями именно субъективных признаков, неупречности причинения вреда при данном обстоятельстве [5, с. 63].
Поскольку наша работа направлена на рассмотрение психических особенностей причинения вреда при необходимой обороне, то необходимо обратиться к изучению возможных вариантов реагирования обороняющегося на угрозу причинения вреда или непосредственно нападение. Е. В. Климачева в работе «Модели поведения человека в стрессовой ситуации» отмечает, что все биологические организмы имеют врожденные механизмы поддержания внутреннего равновесия. Возникающий стресс и приспособление к нему проходит несколько стадий. Тревога сопровождается мобилизацией резервов. При продолжительном воздействии стрессора происходит истощение адаптационных резервов организма [1]. В нашем случае нападение на лицо или угроза непосредственного нападения является стрессовым фактором высокой степени интенсивности. В связи с воздействием данного фактора на сознание человека, он в зависимости от своего типа характера, мышления, возбудимости может отреагировать разнообразным образом. А именно: овладеть ситуацией, т. е. дать отпор нападающему, выразить импульсивную реакцию, дающую лишь разрядку негативных эмоций (плач, крик, истерика), уйти от ситуации, например, убегать от нападающего. В данном случае каждая из реакций лица подлежит правовой оценке, а также от данной реакции будет зависеть дальнейшее поведение нападающего и конечная юридическая оценка его действий. Также стоит отметить, что на ситуацию повлияет и психическое состояние нападающего, как он отреагирует на бегство лица или на его ответные активные действия.
Одной из важных категорий, влияющих на итоговую квалификацию содеянного, является законодательно закрепленная категория явного несоответ- ствия мер защиты и нападения. Между тем понятие явности не раскрывается законодателем в УК РФ. Однако пункт 11 постановления Пленума ВС РФ № 19 связывает данный критерий с умышленным выбором обороняющимся таких средств и способов защиты, которые не были обусловлены характером и опасностью посягательства. В случае умышленного выбора обороняющимся средств, явно более опасных, чем исходящая угроза, его действия могут оцениваться как превышение пределов необходимой обороны или как умышленное причинение вреда. В практической деятельности в приговорах судов можно отметить, что они справляются с ситуацией оценки психического состояния лица следующим образом. Анализ приговоров показывает, что в них не уделяется детального внимания психическому состоянию лиц. Может быть указано состояние опьянения, но нет ссылок на конкретные психические процессы, реакции, их скорость и прочее, о чем мы писали ранее. Правоприменители оперируют больше уголовно-правовыми терминами, указывая на отсутствие состава преступления, на отсутствие умысла обвиняемого. Однако именно оценки психического состояния лица, которое является предпосылкой для такого вывода, не наблюдается. Как предпосылка, такому выводу, как правило, предшествует описание объективных признаков и обстоятельств совершенного. Например, несмотря на обвинительные приговоры судов нижестоящих инстанций, Верховный Суд РФ в 2023 г. вынес оправдательный приговор М., который предотвратил нападение нетрезвого гражданина на двух женщин, нанеся Б. удар ногами в область правого бедра 1. Судьи ВС РФ одним из аргументов указали испуг М. за здоровье и жизнь двух женщин. Также они (судьи) отметили, что когда нападающий упал, М. не применял к нему дальнейших физических действий. То есть при окончании нападения закончились и оборонительные действия, что свидетельствует о том, что оборона была своевременной.
В 2020 году Николаевский-на-Амуре городской суд вынес обвинительный приговор о превышении пределов необходимой обороны, одной из причин указав, что обороняющаяся ФИО1 избрала неоправданно суровые, заведомо для нее излишние средства защиты, осознавая, что может причинить вред здоровью ФИО2, который не был необходим для предотвращения нападения 2. Таким образом, суд обращает внимание на факт осознания обороняющейся степени опасности и средств нападения. Также указывается на заведомость выбора несоразмерных средств. Более детальный разбор психических реакций в приговоре не произведен.
Меры повышения квалификации правоприменителя в сфере психологии
Какие меры могли бы быть приняты, чтобы не устранить, но хотя бы уменьшить данную проблему? В первую очередь необходимо повышать уровень знаний правоприменителя в сфере психологии и психиатрии. Поскольку невозможно (трудозатратно, требует много времени, финансов) приглашение эксперта врача-психиатра по каждому случаю. Каким образом может быть повышена грамотность следователей (дознавателей) и судей в данном вопросе? Думается, за основу можно взять тот комплекс вопросов, которые задаются лицу при психиатрической экспертизе. Здесь важно уточнить, что вопросы должны формулироваться именно с учетом того, что они будут задаваться фигуранту уголовного дела, а не эксперту. Т.к. содержание данных вопросов разнится. В первом случае следователь должен задавать вопросы, уточняющие объективные обстоятельства произошедшего. А именно: во сколько по времени было совершено нападение, в каком месте, какие физические действия (удары, побои, угрозы оружием и др.) совершило лицо. Были ли свидетели произошедшего. Исходя из опроса, следователь делает вывод о том, кто был нападающим, а кто обороняющимся. Затем важно уточнять психоэмоциональное состояние фигурантов в момент преступления (происшествия). А также предшествующие взаимоотношения (неприязнь и иные). Во втором случае эксперту могут быть заданы вопросы: не страдает ли лицо психическим расстройством и каким, не нуждается ли он в применении принудительных мер медицинского характера. В любом случае оценить психическое состояние лица возможно лишь в ходе беседы с ним, здесь влияют и так называемые невербальные источники коммуникации (жесты, мимика), влияет интонация, скорость, стиль, манера речи.
Заключение и выводы
Исходя из изложенного, важно отметить, что проблема правильной юридической оценки причинения вреда при необходимой обороне остается актуальной, несмотря на обширную судебно-следственную практику, теоретическую разработку и разъяснения Верховного Суда РФ. Одним из направлений решения проблем в этой сфере мог бы стать более детальный анализ психического состояния лица, обороняющегося от нападения. Необходимо чаще назначать психолого-психиатрическую экспертизу для установления мотивов и целей поведения лица при необходимой обороне. Такая экспертиза, проведенная врачами-специалистами, будет способствовать более детальной и правильной оценке состояния лица при причинении вреда при необходимой обороне, что повлечет более справедливую ее юридическую оценку. Особенно необходимость такой оценки возрастает в ситуациях, когда лицо причиняет вред в состоянии мнимой обороны, лицо вследствие неожиданности посягательства причиняет вред больший, чем необходимо, лицо находится в состоянии силь- ного душевного волнения, что искажает его восприятие действий нападающего, лицу не ясен момент окончания посягательства.
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена, в том числе тем, что в правоприменительной деятельности возникают сложности, неверное применение рассматриваемых норм, что влечет к несправедливому решению по уголовному делу. Более детальное внимание правоприменителя к субъективной стороне деяния позволило бы в некоторой мере решить данные проблемы.
Поскольку именно правоприменитель дает юридическую оценку действиям лица, постольку именно его грамотность в сфере психологии и необходимо повышать. В связи с отсутствием возможности привлечения по каждому делу врача-психиатра, а также тем, что следователь, дознаватель, судья имеют юридическую, а не медицинскую квалификацию, возникает необходимость обучения студента-юриста психологическим аспектам личности человека. В рамках высшего образования такая роль может быть отведена дисциплине «Юридическая психология».