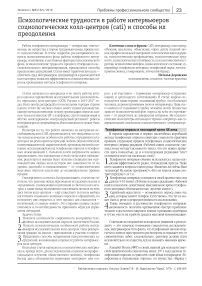Психологические трудности в работе интервьюеров социологических колл-центров (CATI) и способы их преодоления
Автор: Доровская Наталья
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Проблемы профессионального сообщества
Статья в выпуске: 6, 2018 года.
Бесплатный доступ
Работа телефонного интервьюера - интересная, ответственная, но непростая, а порою трудновыносимая, прежде всего психологически. В статье подробно рассматриваются вопросы психологического фона работы телефонного интервьюера, позитивные и негативные факторы психологического фона, психологические трудности процесса телефонного исследовательского интервьюирования, предлагаются способы преодоления затруднений. Статья имеет практическую цель - облегчить труд интервьюеров, супервайзеров и руководителей колл-центров, повысить эффективность социологических опросов, проводимых методом телефонного интервью.
Интервьюер, колл-центр, обучение населения, объяснение, опрос детей, поздний звонок, профессиональное выгорание, психологическая поддержка, психологическая профилактика, психологическая трудность, психологическая устойчивость, психологический инструктаж, психологический фон, психологическое состояние, супервайзер, телефонное интервью, телефонный опрос, тип восприятия звонка, уговаривание, этический барьер
Короткий адрес: https://sciup.org/142222966
IDR: 142222966
Текст научной статьи Психологические трудности в работе интервьюеров социологических колл-центров (CATI) и способы их преодоления
Наталья Доровская психоаналитик, социолог, частная практика
Статья написана на материалах и по опыту работы автора в одном из крупнейших исследовательских (исключительно опросных) колл-центров (CATI) России в 2015-2017 годах. Колл-центр распределён по нескольким городам страны одного и того же часового пояса, имеет единое руководство, единую методологическую основу организации опросов, единую технологическую (IT-) платформу, строго выверенный и жёстко многоуровнево контролируемый регламент работы интервьюеров и супервайзеров. Имя компании не может быть названо.
Несмотря на то, что работа написана на материалах исследовательского CATI, предполагается, что описанные в статье психологические особенности работы сотрудников колл-центра и их респондентов присущи любой социологической, коммуникационной, маркетинговой, производственной компании, использующей метод телефонных опросов и телефонных коммуникаций. С большой долей уверенности можно предположить, что изложенные в этой статье идеи, наблюдения, результаты и выводы будут полезны специалистам и руководителям любых колл-центров вне зависимости от их уровня, масштаба и специализации — от социологических массовых опросов населения до индивидуальных прямых продаж.
Одновременно хотелось бы предположить, в качестве гипотезы, что разница между персоналом исследовательских и «продажных» (занимающихся рекламой и сбытом) колл-цен- тров, а также между восприятием населением звонков из этих двух типов колл-центров — ещё существует (в пользу выбора населением социально значимых опросов и обращений), но понемногу уже стирается, и этот процесс для социологов — негативный, со знаком «минус». Это стирание границ следует учитывать и, по необходимости, принимать меры для управления ситуацией.
Задачи статьи:
1 Показать особенности современного восприятия теле- . фонных исследовательских опросов населением России.
2Описать психологические особенности работы интер-.вьюеров исследовательских колл-центров, типы реагиро- вания граждан на звонок / приглашение к участию в опросе.
3Предложить способы исправления психологических за-.труднений, возникающих в процессе работы интервьюе- ров колл-центров.
Поскольку статья написана на социологических материалах и, прежде всего, для исследователей-социологов (профессиональное изучение общественного мнения), телефонная беседа здесь обозначается терминами «интервью» или «оп- рос», а её участники — терминами «интервьюер» (спрашивающий) и «респондент» (отвечающий). В статье широко используется также термин «поднявший трубку», он обозначает человека, первым принявшим звонок интервьюера. Чаще всего именно от поднявшего трубку человека почти полностью зависит психологический фон опроса на всём его протяжении — от рекрутинга до завершения интервью. Не-социоло-гические колл-центры используют термин «оператор» как содержательный синонимом социологического «интервьюер».
В период зарождения и первых масштабных апробаций метода телефонных опросов советские социологи-практики приняли следующие правила телефонных социологических интервью (первая редакция «Рабочей книги социолога» уде- лила этому методу так немного текста, что его можно привести здесь полностью, да и в последующих редакциях текст отличается всего на несколько слов)1:
1 Телефонное интервью обычно используется с целью изу-
. чения эффективности радио, телевидения, прессы. Чаще всего задаются вопросы такого рода: «Включен ли сейчас Ваш телевизор? На какую программу?»; «Кто из членов семьи смотрит передачу?»; и т. п.
2 Телефонные интервью отличаются своей краткостью: они
. длятся 5-10 минут. (В более поздних редакциях «Рабочей книги социолога» допустимое максимальное время телефонного интервью обозначается как «десятки минут»).
3 Серьёзный недостаток — возможность опроса лишь тех
. лиц, которые имеют телефон. Естественно, что тут не может быть и речи о репрезентативности исследования.
Также очевидно и достоинство телефонного интервью: возможность получить чрезвычайно быстро приблизи- тельное и достаточно широкое знание о реакциях аудитории и тут же учесть их в работе средств массовой коммуникации».
Советские исследователи исходили из уважения к респонденту — это означало понимание социологом, исследователем, интервьюером того факта, что телефонный звонок вторгается в личное пространство респондента и отрывает его от сиюминутных забот, следовательно, разговор должен идти исключительно по существу дела и занимать минимум времени.
Элизабет Ноэль (ФРГ) в своей, важной для молодой советской практической социологии, книге 1971 года уделила телефонным опросам, в сущности, один абзац в подразделе «Телефонные и письменные опросы», он звучал так: «Наряду с устными контактными, личными интервью бывают также устные телефонные опросы. Их можно применять для кратких опросов, например интервью с врачами или деловыми людьми, которые все за редким исключением имеют телефон в своем полном распоряжении. Это является предпосылкой для проведения телефонных опросов. (Однако, если ограничиваться, например, при опросе всего населения теми, кто имеет телефон, то вместо репрезентативной выборки мы получим лишь выборку лиц, имеющих телефон)»2. То есть, по опыту западных социологов, во-первых, личный телефон имели чаще статусные персоны, что действительно не давало возможность использовать телефонные опросы для массовой аудитории; во-вторых, телефонные интервью были интервью короткими, что, в-третьих, свидетельствовало об уважении к своим респондентам и западных социологов тоже.
Однако западный опыт интересен не только похожестью и тем, что задал тон и полезные вопросы советским коллегам, но и тем, что, в отличие от СССР, на рыночном Западе уже тогда развивалось такое направление телефонной деятельности, как личные прямые телефонные продажи или, шире, маркетинговые коммуникации (которые, конечно, задействовали не только телефон, это лишь одна из форм). К социологическим исследованиям методом телефонных опросов они имеют то отношение, что абонентская база торговцев и социологов — едина. Это значит, что потенциальные респонденты получают звонки не только с просьбой ответить на вопросы социологов, но и звонки от торговцев с предложением купить тот или иной товар или услугу, и звонки от торговцев поступают чаще. Более того, современные владельцы телефонных номеров — потенциальные респонденты исследователей — не защищены как от недобросовестных маркетологов (совершающих звонки на частные телефонные номера без конкретной темы, а только чтобы узнать, поднимают ли трубку на этом номере), так и от звонков с мошенническими целями. Весь этот «вал приглашений» к телефонному общению со временем начал вызывать раздражение владельцев частных телефонных номеров.
Поэтому уже в 1960-х западные коллеги-социологи задумывались о том, как добиться доброжелательного внимания респондентов. В книге Элизабет Ноэль много говорится о внимании к респонденту, об использовании в опросных рыночных анкетах не только содержательных, но и «развлекательных» вопросов, на которых респондент может отдохнуть, отвлечься. Всё это, правда, говорится применительно не к телефонному, а к личному устному интервью, но важен посыл и его финальный эффект — установленный контакт позволял продолжать личное интервью не только удобные среднестатистические 30 минут, но и час, и более, важным было достижение цели — получить от респондента качественную добросовестную информацию, или, словами Элизабет Ноэль, «дружественные, полные, обоснованные ответы людей»3. Не нужно забывать, пишет Элизабет Ноэль, что «опрашиваемые «дают» интервью, они даже дарят зачерствевшему заказчику исследования о рынке сбыта товаров свое время, но они не позволяют собой командовать, они не чувствуют себя к чему-либо обязанными, у них нет причин позволять интервьюеру себя мучить и подвергать умственному перенапряжению. Интервью должно доставлять удовольствие — во всяком случае, основную часть времени»4.
Таким образом, и западные, и советские социологи-практики уделяли немалое внимание не только качеству анкет и выборки, но и качеству взаимодействия интервьюеров и респондентов. В силу невысокого уровня телефонизации населения, телефонные опросы в ХХ веке были менее распространены, чем сегодня, и многих, актуальных сегодня, проблем просто не существовало, к таковым относятся, например, проблемы рекрутинга по телефону (сегодня значительно больше отвержений, люди в городах устают от обращений), проблема продолжительности интервью и удержания внимания респондента, проблема вознаграждения респондента, а также технические проблемы, связанные с обеспечением случайной выборки, поддержанием бесперебойности работы колл-центра, хранением данных и пр.
Методология и теория исследовательского процесса известны хорошо и подробно и ни на мгновение не остаются без пристального внимания, в то время как работе главных полевых сотрудников, интервьюеров и супервайзеров, и ощущениям и самочувствию современных телефонных респондентов (наших обычных сограждан, принимающих телефонный звонок интервьюера) — уделяется значительно меньше внимания, а ведь именно эти звенья «исследовательской цепи» наиболее тонки. Усилим их.
Согласно экспертному онлайн-опросу российских социологов и исследователей рынка, проведённому к Российской Исследовательской Неделе — 20175, в общем обороте рынка социологических и маркетинговых исследований в России на количественные исследования приходится 76%, из них на телефонные опросы (обычные и CATI, то есть проводимые как без использования, так и с использованием колл-цент-ров) — 18,5%. Суммарный оборот российского рынка социологических и маркетинговых исследований в 2016 году эксперты, таким образом, оценили в $269 млн, то есть в телефонные опросы заказчиками в 2016 году было вложено $37,8 млн.
В том же опросе в числе сильных сторон своей отрасли эксперты указали высокий профессионализм исследователей, низкую стоимость исследований вкупе с высоким уровнем конкуренции в исследовательском сегменте, а также рост интереса заказчиков к исследованиям и соответствующее увеличение бюджетов. К слабым сторонам исследовательской отрасли эксперты отнесли, в том числе, снижение качества исследований и повышение недоверия к их результатам, снижение интереса к исследованиям у респондентов, а также снижение общего уровня прибыльности в исследовательской индустрии, что ограничивает инвестиции в кадры и в инфраструктуру исследований.
Значит, высокую внутриотраслевую конкуренцию исследовательских компаний и снижение стоимости исследований нельзя назвать однозначно позитивным трендом, скорее наоборот, если следствием становится недостаток вложений в обучение исследовательского персонала, снижение качества результатов исследований, потеря респондентами интереса к опросам. С другой стороны, заказчики желают всё более оперативного оборота исследовательской информации, которое, казалось бы, становится возможным благодаря высоким технологиям (онлайн-, мобильным и т. п.), но которое одновременно увеличивает как напряжённость работы интервьюеров, так и «опросную нагрузку» на каждого отдельного россиянина — а учитывая большое число отказов от опроса (во многом благодаря переполненности рынка «телефонными исследователями»), этот тренд также нельзя назвать позитивным.
Содержание работы интервьюера колл-центра
Основная задача интервьюера колл-центра — ведение телефонных опросов граждан, с соблюдением всех требований регламента опроса, не допуская брака (нарушений регламента, при которых интервью не может быть использовано на следующей, аналитической, стадии исследования). Опросы могут быть более или менее стандартизованными, в зависимости от этого они более или менее приближаются либо к свободному интервью, либо к анкетному опросу. Интервьюеры колл-центров ведут, как правило, беседу по чётко определённому алгоритму, имеют перед глазами анкету (на экране компьютера), а порядок вопросов и все необходимые подсказки даёт компьютер. Таким образом, интервьюер минимально свободен в процессе ведения интервью — он не может переформулировать вопрос, не может изменить порядок вопросов, не может ошибиться и задать респонденту ненужный вопрос — за всем следит компьютер, он направляет и подсказывает. Функции интервьюера сводятся к рекрутингу, зачитыванию респонденту вопросов и, при необходимости, вариантов ответов, внимательному отмечанию ответов респондента. Казалось бы, ничего сложного, кроме рутинности.
Действительно, компьютер чаще всего не ошибается и интервью всегда направляется по нужной ветке, вопросы анкеты и варианты ответов тщательно проработаны социологами-профессионалами и большинство вопросов и вариантов ответов не вызывает у респондента непонимания. И всё же работа интервьюера трудна и не каждому человеку по плечу, и основные трудности — психологического характера. Чтобы полнее и яснее представить себе работу интервьюера, предлагаю читателю протокол, без купюр, одного из семи дней работы интервьюера крупного социологического колл-центра6. Ранее, в 2015 году, было проведено похожее, но значительно более короткое, пробное наблюдение, на протяжении 12-ти рабочих смен подряд, но об этом будет сказано позднее.
Протокол работы интервьюера (таблица 1) представляет собой протокол сплошного включённого наблюдения за осуществляемыми интервьюером звонками. Основной задачей наблюдения было, не упуская ни одного звонка, зафиксировать город, реакцию поднявшего трубку человека на приветственное обращение интервьюера, пол этого человека, итог звонка — продолжился ли разговор, состоялся ли рекрутинг, удалось ли провести или запланировать на другое время интервью или был получен отказ и в какой форме, а также, в примечании, другие важные для психологического фона интервью факты, если эти факты имели место. Просматривая протокол, можно немного погрузиться в психологическую атмосферу работы интервьюера телефонных опросов (а также супервайзеров, проводящих контроль работы интервьюе- ров, для этого слушающих то или другое текущее или, в записи, завершённое интервью), чуть яснее представить себе воз- никающие в процессе ведения опроса психологические труд- ности.
Некоторые пояснения к протоколу звонков 2016 года
(таблица 1):
1В столбце «Город» указывается город, на который ком-.пьютер направил дозвон. Дозвон ведётся на случайный номер телефона, но интервью проводится только если телефон — частный, то есть домашний стационарный или личный мобильный, это должен выяснить интервьюер во время рекрутинга. От интервьюера выбор города дозвона, выбор телефонного номера, проверка на соответствие географиче- ской квоте и сам технический процесс дозвона никак не за- висят (это задачи компьютера), интервьюер получает готовый зуммер дозвона и должен быть готов говорить с любым поднявшим трубку человеком вне зависимости от того, в ка- ком часовом поясе тот находится.
2В столбце «Пол» указывается пол человека, поднявшего .трубку. Если в ходе рекрутинга выяснилось, что этот человек и есть респондент, то в протоколе это обозначается добав- лением приставка «-р» к полу, например, «жен-р» или «муж-р».
Если в ячейках столбцов «Город» или «Пол» нет информации, это означает, что плотность звонков или информации была очень высокой, часть информации не удалось зафиксировать, предпочтение отдавалось фиксации содержательной информации по психологической характеристике звонка. 3 В столбце «Настрой поднявшего трубку» описан психоло-
.гический фон, на котором интервьюер начинает приветствие и беседу, и который может измениться или остаться тем же самым на протяжении интервью. В период наблюде- ния в протокол сразу по завершении звонка проставлялась субъективная оценка, от 1 до 5, психологического состояния собеседника, здесь в протоколе, за ограничением места, этот столбец опущен, но сама информация обобщена и представлена ниже (после протокола). Приведу выработанные в процессе предварительного наблюдения (2015 года) критерии присвоения оценки:
Оценка «1», или «Паранойя» — поднявший трубку воспринимает интервьюера с осторожностью, звонок воспринимается как небезопасный, с некоторой вероятностью мошеннический. Поднявший трубку — бдителен.
Оценка «2», или «Истерика» — поднявший трубку человек может находиться в любом эмоциональном состоянии, поз- дороваться очень вежливо, нам в данном случае важно его поведение после того как он узнал, что звонит интервьюер. Характерные реакции для данной группы людей — молчаливый или сопровождаемый разного рода словами сброс звонка; крик; молчание; резонёрство; сарказм; колкости; прочие формы эмоциональной несдержанности в адрес исследовательской организации, работы интервьюера, «всех звонящих» и т. п. Одно из проявлений истерического респондента — прекращение интервью в одностороннем порядке до завершения анкеты, при этом обычный мотив — «надоело», «устал» и т. п.
Оценка «3», или «Хамство» — антисоциальная реакция на звонок, поднявший трубку отвечает интервьюеру в крайне грубой форме, включая открытое хамство, нецензурную брань, угрозы, фамильярность и пр. В отличие от «истериков», уровень воспитания или эмоциональной несдержанности «хама» позволяет ему наносить интервьюеру личные оскорбления, что психологически воспринимается интервьюером тяжелее, чем, если бы оскорбления относились к объектам более отдалённым от его личности, как это интуитивно делает «истерик», ругающийся не на интервьюера, а на представляемую им компанию, вид деятельности, и «вообще».
Оценка «4», или «Вежливый отказ» — интервьюер получает прямой отказ, выраженный словами, в спокойной форме, вежливо, тактично, с аргументацией или без неё, так что интервьюер понимает, что опрос по данному телефону невозможен, нежелателен, неактуален, неинтересен и т. п. мотивация равнодушия и отдалённости. В отличие от категорий неадекватных респондентов (оценка 1-3), «вежливые отказники» дослушивают интервьюера до конца, вникают в суть, и, давая ответ, приводят разумную причину отказа.
Оценка «5», или «Согласие» — поднявший трубку принимает предложение интервьюера принять участие в опросе или переадресовывает интервьюера на респондента. Наиболее частые мотивы контакта в данном случае — добрая воля (в таблице условно обозначается «ДВ») и/или социальная ответственность («СО»). Психологически вести себя такой собе- седник может по-разному, чаще всего он вежлив, спокоен, реже — более эмоционален, в том числе с негативными эмоциями. Если такой собеседник соглашается ответить на вопросы анкеты, то, скорее всего, он доведёт опрос до конца.
Кроме доброй воли и социальной ответственности, часто на участие в телефонном опросе респондента мотивирует «обычная» человечность (иногда она граничит с жалостью к интервьюеру), звучит это так: «Но ведь это Ваша работа», «Это Вам нужно», «Я знаю, что Ваша работа трудная, поэтому я отвечу. Задавайте». Такие шаги навстречу согревают душу интервьюера и поддерживают его веру в доброту и адекватность людей. Редко, но встречаются и такие мотивы участия, как личные качества интервьюера (чувство юмора, красивый голос, ласковый голос, быстрота и чёткость вопросов и ответов), а также печальный мотив — одиночество респондента и, случайным звонком интервьюера, возможность поговорить хоть с кем-то.
Есть и такие люди, кто поддаётся уговариванию, об этом ниже.
4 В столбце «Цитата из речи поднявшего трубку человека» . приводится, по возможности точная, словесная реакция на звонок, приветствие, просьбу интервьюера.
5 В столбце «Итог» кодом указаны действия поднявшего
. трубку:
«И» — интервью состоялось. В скобках может быть указана очевидно превалирующая мотивация: ДВ (добрая воля) или СО (социальная ответственность).
«НИ» — незавершённое интервью. Означает, что респондент по каким-то причинам не смог сейчас ответить на все вопросы анкеты. Ответил ли он на них позже или больше не вышел на связь, в данном случае неважно, не отмечалось и не отслеживалось.
«ПС» — прервалась связь, поднявший трубку бросил или положил её.
«ПТР» — передача трубки респонденту поднявшим её.
«РП» — поднявший трубку разрешил перезвонить в другое время. Причина невозможности продолжить беседу неважна, важнее то, что нет отказа от контакта.
«н/о» — нет ответа. Означает нерезультативный звонок по любой причине — не взяли трубку, «занято», включился автоответчик, зуммер «несуществующий номер» или соответствующий словесный ответ автоинформатора, полное отсут- ствие зуммера, и т. п.
6Столбец «Примечание» включает прочую полезную ин-.формацию для представления о психологическом фоне данного конкретного телефонного разговора/звонка.
Таблица 1. Протокол День 5-й, Четверг
|
Город |
Пол |
Настрой поднявшего трубку |
Цитата из речи поднявшего трубку человека |
Итог |
Примечание |
|
Хабаровск |
жен-р |
лояльно |
РП |
торопилась, но вежлива, согласилась |
|
|
Владивосток |
муж |
крик |
До свидания! Вы мне неинтересны! |
ПС |
перебил интервьюера |
|
Хабаровск |
н/о |
||||
|
Красноярск |
н/о |
||||
|
Владивосток |
муж |
спокойно |
ПС |
замолчал и тихонько положил трубку |
|
|
Хабаровск |
муж-р |
спокойно |
И (СО) |
||
|
Владивосток |
муж |
спокойно |
ПС |
бросил трубку |
|
|
Красноярск |
н/о |
||||
|
Ангарск |
жен |
спокойно |
Не интересуюсь предметом опроса. Не вижу смысла в опросе. |
||
|
Тюмень |
жен |
торопливо |
Ой вы знаете, мне очень некогда. Очень-очень некогда. Очень некогда. |
||
|
Новосибирск |
жен |
спокойно |
РП |
помогла разобраться, хотя и очень спешила |
|
|
Хабаровск |
муж |
спокойно |
Ничего, бывает. |
Организация |
|
|
Чита |
жен |
просяще |
Ой, у меня тут ребенок маленький. В другой день? Да я все равно ничего хорошего вам не скажу. До свидания! |
Извинительно |
|
|
Владивосток |
муж |
глухо |
Нет, нет. |
Нечленораздельно, организация |
|
|
Новосибирск |
жен |
спокойно |
И (СО) |
Не хотела, но согласилась. |
|
|
Владивосток |
жен |
спокойно |
Извините, я спала. Я устала. |
Звонок после 21 часа |
|
|
Владивосток |
муж |
спокойно |
нецензурно |
обращение к интервьюеру на ты, нецензурный текст (звонок после 21 часа) |
|
|
Уфа |
н/о |
||||
|
Хабаровск |
жен |
нервно |
И у меня к вам встречный вопрос - почему, как только какая-нибудь акция, так этот телефон выбирается? Я сижу с сердечным приступом, мне не до вас. |
ПС |
|
|
Тюмень |
жен |
спокойно |
Извините, но честно, мне некогда разговаривать. |
ПС |
|
|
Хабаровск |
н/о |
||||
|
Ангарск |
жен |
спокойно |
предупредила, что респондент не подойдёт |
||
|
Хабаровск |
жен-р |
спокойно |
Да сколько можно! |
НИ |
(в середине интервью) устала и бросила трубку |
|
Тюмень |
жен-р |
спокойно |
И (СО) |
Бросила трубку на предпоследнем вопросе |
|
статистики - расстроил вопрос о мат. положении, её бедность |
|||||
|
Тюмень |
н/о |
||||
|
Челябинск |
жен |
доброжелат ельно |
РП |
ответил ребёнок |
|
|
Тюмень |
жен |
спокойно |
организация |
||
|
Тюмень |
н/о |
||||
|
Березники |
муж |
спокойно |
Магазин |
организация |
|
|
Стерлитамак |
жен |
спокойно |
Че-то это бред какой-то! |
ПС |
выслушала, дважды переспросила: Зачем это вам? |
|
Уфа |
н/о |
||||
|
Уфа |
жен |
плохой слух |
Мне ничего не надо, и не звоните мне |
ПС |
|
|
Челябинск |
н/о |
||||
|
Челябинск |
жен-р |
спокойно |
РП |
||
|
Пермь |
жен |
отвлекаясь от дел |
Ой, нет, извините, мне некогда |
ПС |
|
|
Ижевск |
муж |
спокойно |
РП |
||
|
Ульяновск |
жен |
спокойно |
Нет. не надо мне! Не надо! |
ПС |
|
|
Уфа |
муж |
торопливо |
Ой, не могу я! Мне звонят, звонят! |
ПС |
параллельный звонок |
|
Самара |
муж |
обреченно |
К сожалению, не имеем время сейчас для этого. В другой день? Да, пожалуйста. |
||
|
Тюмень |
н/о |
||||
|
Тюмень |
жен |
спокойно |
ПС |
ответил ребёнок, бросил трубку на полуслове |
|
|
Тольятти |
жен |
спокойно |
А зачем это надо?.. А зачем это надо?.. Ой, ну вас... |
ПС |
|
|
Тольятти |
ПС |
||||
|
Самара |
жен |
недовольно |
Спасибо, нет. До свидания. Нас это не интересует. |
ПС |
|
|
малыш |
крик |
визг в трубку |
ПС |
ребенку разрешили взять трубку и громко и пронзительно покричать в трубку абракадабру |
|
|
Ульяновск |
жен-р |
устало |
РП |
тихо, устало, глухо |
|
|
Тольятти |
жен |
спокойно |
РП |
||
|
Челябинск |
н/о |
||||
|
Ульяновск |
жен-р |
спокойно |
РП |
||
|
Тюмень |
жен |
спокойно |
Компания. Всего доброго, до свидания. |
Организация |
|
|
Ижевск |
муж |
спокойно |
Магазин |
организация |
|
|
Ижевск |
жен |
спокойно |
Какие у вас вопросы?.. Мне не нравятся ваши вопросы. Всё, разговор окончен. |
ПС |
длинная тирада, что они не пользуются тем, о чем опрос |
|
Курск |
муж |
раздраженн о |
Не надо нам задавать вопросы. Не надо больше звонить на этот телефон |
С недоверием |
|
|
Уфа |
н/о |
||||
|
Вологда |
жен |
спокойно |
Это служебный |
организация |
|
|
Калуга |
жен |
спокойно |
Это служебный |
организация |
|
|
Сыктывкар |
муж |
спокойно |
Извините, я занят, не могу сейчас говорить. |
ПС |
заторопился, перебил |
|
Краснодар |
жен |
раздраженн 0 |
У меня этого [о чем опрос] нет. Я больной человек. Мне ничего не надо. |
немного раздраженно |
|
|
Саратов |
муж |
спокойно |
Это организация |
организация |
|
|
Краснодар |
муж-р |
спокойно |
РП |
||
|
Тверь |
жен |
мрачно |
Нет, это госучреждение |
организация |
|
|
Уфа |
жен |
нервно |
Почему вы вторгаетесь в частную жизнь? Кто вам дал право? Кто дал вам мой номер телефона? До свидания! |
ПС |
|
|
Сочи |
жен-р |
нервно |
Я уже участвовала в этом опросе, больше не хочу. |
ПС |
прервала. При перенаборе мы разобрались - да, участвовала, около трех лет назад |
|
Краснодар |
муж |
конструкта вно |
РП |
пояснения когда удобнее |
|
|
Казань |
жен |
спокойно |
Нет, это рабочее место. |
Организация |
|
|
Саратов |
жен-р |
спокойно |
И (СО) |
Пожилая женщина, 80 лет, переживала всё ли поняла верно. |
|
|
Тула |
муж |
спокойно |
Не тратьте время, вычеркните этот телефон, пожалуйста, у меня нет времени с вами разговаривать |
ПС |
перебил интервьюера |
|
Ниж. Новгород |
н/о |
||||
|
Казань |
н/о |
||||
|
Казань |
жен |
спокойно |
Меня не интересуют ваши услуги, до свидания. |
ПС |
|
|
Ростов-на-Дону |
жен |
спокойно |
организация |
|
Ростов-на-Дону |
муж |
спокойно |
Извините, но мы, наверное, не будем участвовать в вашем опросе. В другой день? Да нет, не надо. |
||
|
Краснодар |
жен |
молча |
ПС |
молча положили трубку в середине приветствия |
|
|
Ниж. Новгород |
жен-р |
вежливо |
И (СО) |
Торопилась, но согласилась |
|
|
Ростов-на-Дону |
жен |
спокойно |
респондент не захотел говорить, разрулили ситуацию спокойно. |
||
|
Уфа |
жен |
спокойно |
На такие вопросы я не отвечаю. |
||
|
Краснодар |
н/о |
||||
|
Саранск |
жен |
спокойно |
Дочка, я ничего не понимаю, мне 84 года уже. Я одна живу. Всё. Пока... |
||
|
Сочи |
муж |
спокойно |
ИТР |
с горем пополам передал трубку респондентке |
|
|
жен |
с недоверием |
Ой, все это так тяжело и заморочено, что не звоните больше по этому телефону. |
ПС |
||
|
Сочи |
жен |
спокойно |
Ой, извините, у меня совершенно нет времени. |
ПС |
|
|
Шахты |
жен-р |
открыто |
И (СО) |
Быстро, спокойно, открыто. |
|
|
Саратов |
жен |
не понимая |
Что вам нужно?.. И что вам нужно?.. |
ПС |
дрожащий старческий голос |
|
Ниж. Новгород |
жен |
нервно |
Мне неинтересно на эту тему говорить |
ПС |
немного нервно |
|
Тверь |
муж-р |
резко |
И (СО) |
Сначала резко, потом лояльно. |
|
|
Волгоград |
муж |
лояльно |
Я не проживаю здесь постоянно. |
не может быть респондентом |
|
|
Сочи |
муж |
лояльно |
Ой, честно говоря, я так хочу спать! Я еле-еле сейчас встал. Извините, пожалуйста. |
ПС |
звонок после 21 часа |
|
Ниж. Новгород |
жен |
тихо |
РП |
звонок после 21 часа |
|
|
Ниж. Новгород |
жен |
удивленно |
ПС |
звонок после 21 часа |
|
|
Краснодар |
муж |
спокойно |
Уважаемая! Послушайте. Больше так поздно не звоните по такому поводу. |
ПС |
перебил меня (звонок после 21 часа) |
|
Махачкала |
жен |
удивленно |
А что за время? Что за время, чтобы в такое время звонить? Больше не звоните сюда, пожалуйста. |
ПС |
звонок после 21 часа |
|
Архангельск |
муж-р |
спокойно |
Нет, не смогу, пришёл с работы, уставший. В другой день? Да нет наверное, тема не очень интересна. |
звонок после 21 часа |
|
|
Волгоград |
муж |
очень тихо |
ПС |
тихо положил трубку, молча (звонок после 21 часа) |
Обобщение данных наблюдения (таблица 2) показало, что из 460-ти поднявших трубку, большинство либо в целом (то есть с непредсказуемым финалом, но это в данном исследовании нам и не важно) склонны к контакту (180 человек), либо уверенно и тактично отказываются от участия в опросе (162 человека). Третью группу населения (118 человек) можно условно охарактеризовать как «эмоциональных отказников», среди них преобладает «истерическая» форма реагирования (93 человека), а «параноидная» (15 человек) и «хамская» (10 человек) в совокупности находятся на уровне статистической ошибки (4,3% от общего числа сделанных звонков; 5,4% от звонков с ответом).
До наблюдения 2016 года, в 2015 году было проведено похожее, но более компактное, исследование с задачей подсчитать количество звонков с тем или иным психологическим фоном. Звонки без ответа (код «н/о», «нет ответа») не учитывались, не подсчитывались. Количество состоявшихся (завершённых) интервью также не учитывалось, не подсчитывалось. Исследование проводилось в декабре 2015 года и заняло 12 рабочих дней подряд, 103 рабочих часа, за это время было сделано 775 звонков с ответом (на другом конце провода подняли трубку). Обобщение данных наблюдения (таблица 3) показало, что около половины поднявших трубку дали отказ от участия в опросе (391 человек), около трети отреагировали негативно-эмоци-
Таблица 2. Структура психологического фона звонков в наблюдении 2016 года в единицах
|
День № (2016 год) |
Сделано звонков, ед. |
Состоялось интервью, ед. |
|||||||
|
всего |
ИЗ них |
||||||||
|
нет ответа |
есть ответ |
||||||||
|
всего |
ИЗ них |
||||||||
|
паранойя |
истерика |
хамство |
вежливы й отказ |
согласие |
|||||
|
1, вс |
по |
27 |
83 |
4 |
21 |
0 |
24 |
34 |
8 |
|
2, пн |
84 |
И |
73 |
0 |
24 |
0 |
19 |
30 |
9 |
|
3, вт |
75 |
23 |
52 |
3 |
13 |
0 |
12 |
24 |
9 |
|
4, ср |
64 |
7 |
57 |
3 |
5 |
4 |
22 |
23 |
7 |
|
5, чт |
93 |
16 |
77 |
1 |
11 |
3 |
41 |
21 |
7 |
|
6, пт |
96 |
25 |
71 |
3 |
9 |
1 |
32 |
26 |
5 |
|
7, сб |
63 |
16 |
47 |
1 |
10 |
2 |
12 |
22 |
8 |
|
Всего |
585 |
125 |
460 |
15 |
93 |
10 |
162 |
180 |
53 |
Таблица 3 . Структура психологического фона звонков в наблюдении 2015 года
Как можно заметить, количество «хамских» ответов в обоих наблюдениях — 10. Может показаться, что их мало, и по числу это так, но только в сравнении с общим числом звонков. На самом же деле «хамские» ответы «выбивают из седла» ещё сильнее и мгновеннее, чем даже самая негативная «истерическая» реакция, поскольку содержат и оскорбления личности интервьюера, и угрозы, и крайне неприятное эмоциональное давление. Даже если интервьюер и знает, что ему ответить, антисо-циал чаще всего не даёт такой возможности — закончив свой грубый монолог, он бросает трубку. Интервьюер же обязан продолжить опрос, мысленно приведя себя за время набора очередного номера (несколько секунд, в лучшем случае несколько десятков секунд, до минуты) в состояние психологического баланса. Хамские ответы, к счастью, встречаются интервьюеру не каждый день, но, к сожалению, не бывает дней, полностью свобод- мый оскорбит или смешает с грязью, и можно отдалённо понять чувства интервьюера, попавшего на хамский или истерический ответ.
Сравнивая наблюдения 2015 и 2016 годов (таблица 4), очевидно, что психологический фон телефонных интервью стал в 2016 году спокойнее (совокупная доля вежливых отказов и контактных ответов выросла на 10,6%) за счёт сопоставимого снижения размера доли «истериков» (-10,8%), доля «параноидных» и «хамских» ответов осталась на том же уровне. Причины такой ситуации в 2015 году и такой динамики к 2016 году скорее в уровне социального благополучия и социальной напряжённости, чем в возросшем профессионализме интервьюера. 2015 год был первым годом серьёзного внутреннего кризиса, вызванного масштабными антироссий-скими санкциями и последовавшим ухудшением экономического положения населения, многие люди лишились заработка. На этом индивидуально напряжённом эмоциональном фоне большого числа россиян социологам стало труднее встречать позитивный настрой и желание поделиться с другими своим опытом и мнением, людей занимали более насущные заботы.
ных от других выбивающих интервьюера из психологического равновесия — «истериков», а бывают и такие рабочие дни, когда хамских звонков встречается несколько. Читателю достаточно представить, как он будет себя чувствовать, если его хотя бы один раз в день на улице кто-то незнако-
Таблица 4. Сравнительная структура психологического фона звонков с ответом в наблюдениях 2015 и 2016 годов
|
Стиль ответа |
Значение |
Доля ответов в период наблюдения, % |
|
|
2015 год |
2016 год |
||
|
Паранойя |
минимум |
0,0 |
0,0 |
|
максимум |
14,0 |
5,8 |
|
|
среднее |
4,0 |
3,3 |
|
|
Истерика |
минимум |
12,3 |
8,8 |
|
максимум |
43,8 |
32,9 |
|
|
среднее |
31,0 |
20,2 |
|
|
Хамство |
минимум |
0,0 |
0,0 |
|
максимум |
3,2 |
7,0 |
|
|
среднее |
1,3 |
2,2 |
|
|
Вежливый отказ |
минимум |
40,6 |
23,1 |
|
максимум |
63,6 |
53,2 |
|
|
среднее |
50,4 |
35,2 |
|
|
Согласие |
минимум |
9,1 |
27,3 |
|
максимум |
16,1 |
46,8 |
|
|
среднее |
13,3 |
39,1 |
|
Обзор психологических трудностей в работе интервьюеров колл-центров
В работе интервьюера, ведущего телефонный опрос, можно выделить психологические трудности специальные , присущие только данному конкретному виду труда (многочасовые рабочие смены по проведению социологических опросов по телефону), и общие , присущие трудовым коллективам в целом и неплохо и всесторонне изученные учёными (и по этой причине не рассматриваемые в настоящей статье подробно).
Общие трудности . Трудовой коллектив колл-центра состоит, грубо-условно, из (1) сотрудников, имеющих постоянное (точно закреплённое и индивидуально оборудованное) или условно-постоянное (любое стандартно оборудованное свободное) место работы в помещении колл-центра, и (2) сотрудников, постоянно работающих вне помещения колл-цен-тра (чаще всего это рабочее место дома, но теоретически — в любом спокойном месте с технической возможностью надёжного доступа в Интернет). Это означает, что не все сотрудники колл-центра знакомы между собой, но все они имеют общих руководителей, супервайзеров, регламент (график выхода на смену, систему оплаты труда, подчинение научным правилам ведения опроса, подчинение нормам этического кодекса интервьюера).
Трудовому коллективу колл-центра присущи общие психологические трудности и проблемы, связанные с дисциплиной рабочего процесса и с взаимоотношениями в коллективе. Это разные «стандартные» трудности, способы преодоления которых широко известны и кратко могут быть сформулированы так: сдерживать, пресекать, заботиться. В какой-то степени в колл-центре общие психологические трудности выражены меньше, чем в стабильном постоянном трудовом коллективе, поскольку основное время здесь отдаётся только работе, общение между сотрудниками в основном только рабочее, естественным образом сведённое к минимуму, часто опосредованное (компьютерный чат, то есть письменное общение, а не личное), нерабочее общение в перерывах возможно только для сотрудников, работающих в физическом колл-центре, а также для интервьюеров, уже длительно работающих в коллективе.
Специальные трудности . К специальным психологическим трудностям в работе интервьюеров колл-центров можно отнести:
1Преодоление порога вхождения в рабочий процесс теле-.фонного интервьюирования. Преодоление периода физи- ологического привыкания голосовых связок к длительному на- пряжённому многочасовому говорению.
2Преодоление этического барьера при требовании «угова-.ривать респондента», в частности, уговаривать на участие в опросе (не то же самое, что преодоление сопротивления респондента на этапе рекрутинга), уговаривать ответить на все вопросы анкеты и завершить интервью, особенно если это ин- тервью длительное, уговаривать на участие в других опросах своей исследовательской компании.
Преодоление этического барьера при осуществлении по- . здних (после 20 часов) звонков.
Сохранение психологической устойчивости с респонден- . тами, контакт с которыми эмоционально негативно окра-
шен, а также после такого контакта.
56..
Преодоление этического барьера при опросе детей.
Негативные аспекты взаимодействия с супервайзерами. Одновременное выдерживание «двойного психологичес- кого пресса» — со стороны респондентов и со стороны супер- вайзеров.
7Сопротивление восприятия стратегических управленчес-.ких корректировок и нововведений в общий регламент ве- дения интервью или в регламенты ведения конкретных опросов.
Важно, что начинающих интервьюеров никто не предупреждает о психологической специфике их будущей работы, и новый сотрудник оказывается один на один со всеми этими трудностями.
Психологическая трудность 1: Преодоление порога вхождения в рабочий процесс
Среди особенностей преодоления трудностей периода адаптации для телефонных интервьюеров:
-
— преодоление страха удалённого общения;
-
— получение опыта одновременного общения с респондентом и супервайзером;
-
— привыкание к более или менее сложным алгоритмам ведения интервью;
-
— преодоление первых негативных впечатлений от столкновения с респондентами-»хамами», «истериками», «параноиками», с аргументированными отказами респондентов;
-
— преодоление первых негативных впечатлений от столкновения с контролем строгого следования регламенту опросов супервайзерами.
Отдельной специфической трудностью в работе начинающего телефонного интервьюера нужно назвать период физиологического привыкания голосовых связок к многочасовому говорению, этот период у одних интервьюеров может пройти незамеченным, у других — занять несколько недель и потребовать выработки индивидуальных мер защиты связок и сохранения голоса.
Психологическая трудность 2: Преодоление этического барьера «уговаривать респондента»
Если интервьюер имеет социологическое, маркетинговое, рекламное или управленческое образование, то, вероятнее всего, он что-то слышал об Этическом Кодексе ESOMAR и его нормах, гласящих, в частности:
«Статья 4 — Сбор первичных данных
-
(a) При сборе личных данных непосредственно от субъекта таких данных в целях проведения исследования: ... v. Исследователи должны соблюдать право субъектов данных отказываться от предложения принять участие в исследовании.
-
(b) Исследователи должны предоставлять субъектам данных возможность отказаться от продолжения исследования в любой момент времени, а также получить доступ к или исправить хранящиеся о них данные»7.
На практике право респондента отказаться от участия в исследовании регулярно «атакуется» сотрудниками, которые, казалось бы, первыми должны его соблюдать — руководителями и методистами опросов. Стремясь к соблюдению сроков исполнения полевых работ и, значит, «норм выработки» интервьюерами, такие руководители и методисты, через супервайзеров и лично, настоятельно просят интервьюеров всеми силами уговаривать респондентов поучаствовать в опросе.
Чем чревато для интервьюера уговаривание? «Двойным ударом» — конфликтными ситуациями с респондентами плюс неприятными объяснениями с супервайзерами. Уговаривание респондента интервьюером является, во-первых, унизительной процедурой для самого интервьюера, обязанного Международным этическим кодексом исследователей давать респонденту полное право выбора участия или неучастия в опросе; во-вторых, демонстрацией неуважения к респонденту, поскольку уговаривание предполагает отсутствие у последнего собственного мнения и выбора собственного индивидуального стиля поведения в отношении опросов; в-третьих, вызывает раздражение респондента, который, возможно, не желает или не имеет
Таблица 5. Анализ эффективности получения интервью в позднее время
Как проходит интервью с «уговоренным» респондентом? Иногда оно доводится до конца. Иногда в ходе интервью респондент меняет отношение к опросу с плохого на хорошее, и бывает в финале очень доволен состоявшейся беседой. Но чаще всего результатом является раздражённое бросание трубки в середине опроса со словами «И зачем я только согласился/со-гласилась!» Это побочный эффект уговоров, как и следующие: поднявший в следующий раз трубку отказывается подозвать респондента к телефону для завершения опроса; респондент, «разрешивший» перезвонить позже, отказывается (иногда грубо) принять участие в опросе, и т. п.
Альтернатива уговариванию — объяснение. Если уговаривание подразумевает упрашивание, вплоть до мольбы («ну пожалуйста, поучаствуйте, а то меня уволят»), то объяснение подразумевает толкование респонденту, в ответ (!) на его вопросы, причин проведения опроса, места ответов респондента в общей массе ответов участников исследования, правил обращения с индивидуальной социально-демографической и персональной информацией респондента, и т. д. Такое толкование приносит больше пользы и влияет на взвешенное решение респондента (или поднявшего трубку) об участии больше, чем эмоциональное, но, в сущности, голословное, уговаривание. Однако объяснение — ресурс грамотного интервьюера, знающего об опросе и о социологическом исследовании как форме изучения человека несколько больше, чем «как провести опрос». Такое знание достигается не опытом, а профессиональным обучением и пониманием.
Психологическая трудность 3: Преодоление этического барьера при ведении поздних (после 20:00) звонков
Поздний звонок — психологически отрицательный фактор в работе интервьюера. Организаторы опросов утверждают регламент работы интервьюеров таким образом, что прервать работу раньше 22 часов интервьюер не имеет права, и уже сам этот факт свидетельствует о том, что социологическая компания понимает свою неправоту в этом вопросе. Однако не согласным с таким режимом звонков интервьюерам руководители опросов приводят следующие доводы: звонить до 22 часов — нормально; часть респондентов возвращаются домой поздно, а нам нужно застать и опросить и их тоже; многие респонденты спокойно воспринимают звонки после 21 часа; многие респонденты сами просят звонить попозже, и некоторые даже после 22 часов.
Всё это правда, и всё это встречается. Но крайне редко, как видно на основе анализа поздних звонков (к сожалению, в момент наблюдения отмечались как «поздние» только звонки после 21 часа, а не после 20 часов) из наблюдения 2016 года (таблица 5). Результат: из поднявших трубку людей отказались от опроса 70% (38 человек) — 44% (24 человека) вежливо, 22% (12
человек) невежливо, 4% (2 человека) крайне грубо; согласились на опрос 30% (16 человек), из них 15 человек попросили перезвонить в другое время и 1 человек согласился на интервью и довёл его до завершения (при этом, в данном конкретном случае, разговор шёл на фоне периодических истерических требований жены респондента прекратить разговор). Общий результат — 1 интервью на 54 звонка — означает эффективность 1,85%, против 37 интервью на 330 отвеченных звонков за весь период рабочей смены тех же рабочих дней «понедельник-пятница до 22 часов» (таблица 2), что означает эффективность 11,21%. Хотелось бы обратить внимание, что 54 поднявших трубку человека — это работа только одного интервьюера за одну 5-дневную рабочую неделю. А работает интервьюеров ежедневно каждый час — десятки, и дозваниваются они ежедневно каждый час — в сотни семей.
Стоит ли достижение таких редких «поздних респондентов» и такой скромный результат — нервов сотен разбуженных рабочих людей, которым завтра утром нужно вставать на работу, или нервов родителей маленьких детей, всеми силами берегущих вечернюю тишину, или нервов только-только уснувших людей старшего возраста, для которых внезапное пробуждение может быть равносильно бессоннице до утра? Думаю, что нет. На мой взгляд, проблему достижения «поздних» респондентов (то есть респондентов, бывающих дома только после 20-21 часа) нужно решать иными способами, а метод сплошного случайного обзвона страны после 20 часов, максимум после 21 часа, — забыть. Например, у интервьюеров есть практика отложенных звонков — если поднявший трубку человек просит перезвонить позже, часто он называет и удобное время звонка, и интервьюер обязан записать это время и перенести на него звонок. Если это время после 20-21 часа, то все такие звонки и должны производиться в это время. Если таких респондентов немного, то для обслуживания звонков в их адрес в колл-цен-тре остаётся 1-2 интервьюера, а все остальные сотрудники заканчивают работу в 20 (21) час. В противном случае после 21 часа местного, для телефонного номера, времени каждый интервьюер каждым звонком рискует попасть на ответ «хама» или «истерика» и/или «просто разбудить» человека или семью. На практике, во избежание подобных результатов поздних звонков интервьюеры, инстинктивно или сознательно, могут снижать ритм и интенсивность дозвона.
Руководители опросов склонны мотивировать поздние звонки, кроме названных выше мотивов, мотивом законодательного разрешения (или не-запрета). Каждый регион России имеет законодательно закреплённое так называемым «законом о тишине» понятие «ночного времени» (время запрета шума), оно различается от региона к региону, обычно это в рабочие дни период с 22-23 часов до 6-8 часов утра, в выходные и праздничные дни с 22-23 часов до 6-12 часов утра/дня. В некоторых регионах запрещается также шум в дневное время, с 13 до 15 часов. Если расценивать телефонные звонки как «шум», то законодательство исследовательской компанией не нарушается. Однако вряд ли телефонный звонок с просьбой принять участие в опросе можно назвать «шумом». Не назо- вёшь его и «личным звонком», которые телефонный этикет разрешает совершать в любое удобное собеседникам время. Исследовательский телефонный звонок скорее подходит под понятие делового звонка, а деловые звонки телефонный этикет предписывает совершать в рабочее время, максимум в границах от 8 до 20 часов. Есть о чём подумать. Интервьюерами чаще становятся люди воспитанные и образованные, знакомые с этикетом и правилами хорошего тона, и вторгаться в частное пространство в неурочное время им психологически весьма непросто, этот факт в конечном итоге может стать мотивом добровольного увольнения.
Психологическая трудность 4: Сохранение интервьюером выдержки во время и после негативного контакта
Наиболее психологически тяжело воспринимаются интервьюерами разговоры с людьми, реагирующими по типу «хама», «истерика», «параноика». Приведу цензурные цитаты из ответов таких людей.
Реагирование по типу «паранойя».
-
(1) [вежливый отказ, пожилая женщина] «Нас же учат по телевизору — не говорите ничего, так что боишься сказать лишнее».
-
(2) [Новосибирск] «Я в эти игры не играю, и в статистику тоже. Потому что статистика направлена на то, чтобы меня обмануть. А я всё привык просчитывать сам».
-
(3) «Нет, вы знаете, с вами опасно, вам сейчас скажешь, а вы потом подарки, а потом с вами не расплатишься. Нет, до свидания».
-
(4) [Химки, на просьбу интервьюера сообщить имя респондента, чтобы перезвонить ему] «Зачем вам имя? Кто возьмёт трубку, тот и возьмёт. Зачем вам это нужно? Не звоните мне больше».
-
(5) [Нижний Новгород, респондент отказывается отвечать на конкретные вопросы о себе] «Вас это не должно интересовать. Вас должно интересовать, что я проживаю в этом городе, а по этому адресу или нет — это вам неинтересно. Давайте уже задавайте ваши вопросы».
Реагирование по типу «истерика». Реакции поднявших трубку людей включают крик (возмущение, грубости, резкие слова, но не до степени антисоциальности), бросание трубки без какого-либо ответа, затихание и молчание, пока интервьюер сам не положит трубку, риторические вопросы (трубка бросается, несмотря на то, что интервьюер начал давать ответ на заданный вопрос), юмористы, весельчаки, прочие разнообразные «хохотуны» в трезвом состоянии.
-
(1) [пожилая женщина рявкает в ответ] Это храм!! [и бросает трубку]
-
(2) [согласно регламенту, произведено обязательное перезванивание после того как только что бросили трубку] Вам чё, делать нечего?! С вами не хотят разговаривать, а вы!
-
(3) Откуда вы базу взяли?! Чего названиваете?!
-
(4) Ищите кого-то помоложе. Я уже старая. Всё! Не надо!
-
(5) [Краснодар] Ой, какой опрос?! Нет у меня сейчас времени! До свидания! Извиняюсь…
-
(6) [звонок в 20:17 местного времени] Вы знаете, сколько сейчас времени?!
-
(7) [Чита, спокойно] Вы знаете, отстаньте от нас, и больше не звоните. Поняли?
-
(8) [Арзамас] Сколько вам платят?! Уже давно пора всех снять! Слушайте телевизор, там ваш начальник всё вам скажет.
-
(9) [Омск] А я здесь при чём?!
Реагирование по типу «хамство». Реакции поднявших трубку людей включают нецензурную брань, угрозы, фамильярности, шантаж и т. п.
-
(1) [Ростов-на-Дону] Лапонька, больше сюда не звоните. Сделайте там себе отметочку, пожалуйста.
-
(2) [Белгород, во время представления интервьюера мужчина незаметно передаёт трубку жене, и по завершении речи интервьюера в трубке резкий женский вопль] Что?! Не надо нам этого!! Не надо! [на заднем плане похихикивает довольный муж]
-
(3) [Сочи] Ой успокойтесь, а?! Мне ничего не надо.
-
(4) [Тула, пожилой мужчина] Спасибо, лапулечка, мы обойдёмся без вас, ах-ха-ха…
-
(5) [по вине интервьюеров или компьютерного сбоя (короткий период перенабора номера) респонденту идут звонки один за одним] Вы что, решили нас достать? Вы звоните каждый вечер! Уже несколько дней! Вычеркните наш телефон!
Каждый подобный звонок требует от интервьюера некоторого периода психологического восстановления. Чем менее опытен интервьюер, тем большее время ему требуется, а иногда требуется и психологическая помощь. Чаще всего запрос на получение такой помощи выражается в потребности немедленно рассказать о состоявшемся разговоре кому-то из дружески настроенных коллег или супервайзеров — поделиться, выразить эмоции. В крайнем случае, интервьюер может оказаться вынужденным взять перерыв, время которого будет отнято из разрешённого ему общего перерыва, в этом случае своё психологическое восстановление интервьюер оплачивает сам.
Психологическую поддержку интервьюеру оказывают также сами респонденты или поднявшие трубку, если они настроены доброжелательно, и тем более, если выражают интервьюеру благодарность за состоявшийся разговор. Приведу примеры.
-
(1) [Архангельск, женщина, 85 лет]: «Господи, откуда Вы взялись? У меня на днях умер последний друг, мне было так плохо, а тут этот разговор, спокойный, возвращающий… Спасибо!»
-
(2) [Северодвинск, женщина, не подошла по квоте]: «Я! Я! Меня опросите! Со мной поговорите!»
-
(3) [Барнаул, мужчина, удивлённо и искренне, в завершение интервью]: «Как хорошо, что Вы позвонили именно сегодня и что у Вас именно такое имя! Спасибо!»
По моим наблюдениям, человек отвечает на вопросы интервьюера с удовольствием тогда, когда у него всё хорошо, когда у него есть свободное время, когда у него есть настроение беседовать, когда он чувствует себя в безопасности, когда он не спешит, когда он доволен. Сытый, во всех смыслах сытый, человек отвечает на вопросы спокойно, великодушно, терпеливо, доброжелательно или серьёзно, но говорит, беседует. Такой человек — мечта интервьюера, и каждое такое интервью — редкая психологическая удача.
Психологическая трудность 5: Преодоление этического барьера при опросе детей
В некоторых случаях регламент исследования и критерии отбора респондентов по возрасту предполагают требование опроса, в том числе детей. Согласно российскому законодательству, детьми считаются люди до достижения ими возраста 18 лет. Этический Кодекс ESOMAR при опросе детей (по Кодексу это люди в возрасте до 12 лет) и подростков (люди в возрасте от 13 до 17 лет) требует соблюдения следующих положений:
«Статья 2 — Дети, подростки и иные незащищенные лица
-
(a) При сборе личных данных, получаемых от детей или иных лиц, в отношении которых был назначен законный представитель, исследователи должны получить согласие родителя или ответственного взрослого.
-
(b) Исследователи должны проявлять особую осторожность, принимая решение, привлекать или нет детей и подростков к участию в исследованиях. Задаваемые вопросы должны учитывать их возраст и уровень зрелости»8.
На практике, если интервьюер столкнулся с необходимостью опросить ребёнка (например, в ситуации, когда ребёнок взял трубку, взрослых нет дома, ребёнок не испугался и продолжает разговор, соглашается на опрос), регламент работы колл-центра позволяет провести опрос ребёнка без согласия родителей, но не инструктирует интервьюера по поводу разрешительных законодательных актов на этот счёт (можно ли в России опрашивать детей без согласия родителей).
Нужно заметить, что исследовательская компания прилагает усилия, чтобы не задавать детям сложных для них социально-демографических и личных вопросов. Однако дети, с доверием и спокойно идущие навстречу просьбе интервьюера, «осиливающие» опрос, встречаются не так часто. Чаще ребёнок (даже имея разрешение родителя на опрос), начинает стесняться, отказываться, умолкать, не может принять решение согласиться или отказаться от участия в опросе, кладёт трубку, а начав интервью «на свой страх и риск», при первых сомнительных, на его взгляд, вопросах может отказаться продолжать интервью и дать звонку отбой. И поэтому, но главным образом из соображений этики — не опрашивать ребёнка без ведома родителей — прежде чем опросить ребёнка, нужно представиться кому-то из его родителей или ответственных близких, изложить им свою просьбу, дать все необходимые пояснения и, получив согласие, начать разговор с ребёнком, а не получив — отказаться от интервью по этому телефонному номеру.
Реакция родителей на участие их ребёнка в опросе может быть самой разной, но в общем и целом укладывается в один из трёх типов реагирования. Во-первых, категорический отказ, при этом обычно родители не скрывают свою мотивацию, сообщают её интервьюеру. Во-вторых, разрешение на интервью в присутствии родителя. Сегодня это сделать технически несложно — как правило, каждый современный телефон имеет громкую связь, и интервьюер сам может предложить этот вариант родителю. В этом случае возможны две неприятности — родитель может без объяснения причин или с объяснением причин прервать интервью, если ему покажется, что интервьюер задаёт ребёнку «непонятные», «странные», «лишние» и т. п. вопросы, и не всегда интервьюеру удаётся переубедить родителя; ребёнок может давать не вполне искренние и точные ответы в присутствии родителя. В-третьих, разрешение на интервью без каких-либо оговорок. Такие родители даже становятся помощниками интервьюера — своим позитивным отношением к опросу они придают ребёнку уверенность, и они с удовольствием дают ребёнку возможность попробовать на себе, что такое социологическое исследование и «как это» — участвовать в телефонном опросе. К таким родителям интервьюер испытывает благодарность.
Таким образом, при опросе детей возможны разные варианты развития событий, но, обучая интервьюеров, необходимо прививать им привычку, при встрече с респондентом-ребёнком, первым делом уведомлять родителя и просить его разрешения на опрос. Со стороны исследовательской компании такое поведение будет честным и поэтому верным, а интервьюер не окажется в психологически некомфортной роли воришки-обманщика.
Психологическая трудность 6:Влияние супервайзера на психологическое состояние интервьюера
Супервайзеры — в работе интервьюера психологический фактор, который не может быть однозначно оценен как позитивный или негативный. С одной стороны, супервайзеры являются «кнутом», контролёрами, и обязаны оперативно отслеживать и, в некоторых случаях, доводить до внимания интервьюера его качество, скорость работы и производительность, с целью оперативной корректировки интервьюером этих показателей. С другой стороны, супервайзеры оказывают неоценимую помощь интервьюеру в работе — быстро консультируют по сложной ситуации во время опроса, помогают принять вер- ное решение, оказывают психологическую поддержку, не избегают тщательного разбора спорных ситуаций, возникающих во время беседы интервьюера с респондентом, стараются добиться полного понимания интервьюером верного решения, а иногда и сами изменяют своё мнение, разбираются с руководителями, разработчиками анкет, аналитиками и методистами в вопросе подробнее и вносят соответствующие изменения в регламент опроса. Помощь супервайзера — в прошлом, как правило, каждый из них имеет большой опыт интервьюерства — требуется не всегда только новичку, но иногда и опытному интервьюеру, и в этом смысле, если продолжать аналогию «кнута и пряника», супервайзер — это больше, чем «пряник», это настоящий «спасательный круг», настоящая и быстрая «скорая помощь», позволяющая исследовательской компании не потерять респондента, «спасти» интервью.
Положительная роль дружелюбного супервайзера для производственной и психологической поддержки интервьюера неоценима. И такая роль супервайзерами — исполняется. Однако подробнее здесь хотелось бы поговорить о тех ситуациях и алгоритмах в отношениях интервьюеров и супервайзеров (и руководителей), которые сбивают ровный психологический настрой интервьюера на «минус». Что способно негативно повлиять на психологическое состояние добросовестного интервьюера:
-
• Несправедливое указание на плохое качество работы — например, требование «пора взять интервью», когда интервьюер столкнулся со сплошной стеной, один за одним, отказов; настойчивые просьбы уговаривать респондентов на опрос; регулярное напоминание о текущем уровне выработки как завуалированная или открытая просьба активизировать работу; даже шантаж («если будет плохая выработка, то отправим в отпуск»). По так и не понятым мною причинам супервайзеры категорически не принимают от интервьюеров единственного объяснения текущей невысокой производительности — «нет согласия на опрос». Думаю, это такая супервайзерская хитрость. Супервайзеры отказываются признавать естественный факт неритмичности завершённых интервью, им нужен ритм.
Бывает, что в результате многочисленных отказов от опроса компьютерной программе начинает не хватать сгенерированных телефонных номеров для дозвона, требуется генерировать и подгружать новые, это означает ожидание, незапланированный перерыв в опросе, исследовательская компания теряет время и деньги. Требование «уговаривать на опрос» диктуется, в том числе, и для избегания таких перерывов. Но разве это не техническая проблема, и разве она не решается улучшением технического оснащения, расширением возможностей IT-оборудования (мощность, объём виртуального пространства и пр.). Пока же решение проблемы возложено на плечи интервьюеров, и они стараются её решать, но движение исследовательской компании навстречу было бы справедливым.
-
• Обязанность интервьюера немедленно повторно набрать номер телефона, если поднявший трубку человек бросил трубку. К счастью, руководители опроса со временем услышали интервьюеров и отменили это требование регламента как нецелесообразное и даже вредное. К чему оно вело? К тому, что интервьюер, набирающий номер только что бросившего трубку человека, был обречён на негативно-эмоциональную реакцию вплоть до прямого грубого личного оскорбления.
-
• Вмешательство супервайзера в ход интервью (вызванное исключительно искренним желанием помочь интервьюеру). Этот «ход» (вмешательство) свойственен не каждому супервайзеру и, на мой взгляд, должен быть максимально исключён из супервайзерской практики, поскольку вмешательство в живую ткань процесса общения интервьюера и респондента безвозвратно рассредоточивает внимание интервьюера с далеко идущими негативными последствиями для качества интервью, вплоть до брака.
-
• Вмешательство супервайзера в стиль работы интервьюе-
- ра. Это делается для придания ходу опроса единообразия при ведении его разными интервьюерами. Супервайзеры явно не злоупотребляют вмешательствами по этому поводу, но некоторые индивидуальные особенности интервьюеру бывает «избыть» крайне сложно или невозможно, тогда проблема приобретает пролонгированный характер, но проблема ли это. Кто-то из интервьюеров действительно хорошо уговаривает респондентов на опрос, кто-то умеет удержать внимание респондента (разными способами), а кто-то не способен уговаривать и при этом всё равно выдаёт большое количество качественных завершённых интервью. Можно сказать, что индивидуальный стиль телефонного интервьюера соткан из его психических защит, ими индивидуальный стиль и рождается.
Психическая защита интервьюера — вынужденная мера, возникающая бессознательно и дающая возможность психологического выдерживания интервьюером возникающих в процессе работы сложностей. Психические защиты ломать нельзя (да и вряд ли получится), поскольку это обезоруживает интервьюера и ведёт, в конечном итоге, к его отказу от интервьюер-ского труда. Психические защиты, если они, на взгляд супервайзеров или руководителей опроса, мешают работе, правильнее научиться опознавать, понимать их причину, после этого (т. к. раньше это будет, что называется, «об стену горох») обсуждать с интервьюером, и в конечном итоге трансформировать в осознаваемую индивидуальную психологическую защиту, индивидуальный психологический стиль, осознанно использовать его интервьюером в работе без существенных отклонений от общего регламента ведения опроса, ознакомить супервайзеров с допустимыми особенностями индивидуального стиля конкретного интервьюера.
Проблема труднодостижимости единообразия (хотя это не проблема, а естественное положение вещей) становится проблемой культуры и науки, наднациональной проблемой. Крупные компании действуют по стандарту, несоответствие ИСО или иным общепринятым глобальным или национальным стандартам существенно бьёт по спросу на услуги «не соответствующих» компаний. Экономическая цепочка ясна, смерть для компании невыгодна. Пока остаётся наблюдать и приспосабливаться.
-
• Требование супервайзера устранить «излишне обстоятельную» поясняющую запись, предназначенную для другого интервьюера, при переводе звонка на будущее время. («Излишне обстоятельной» считается запись отнюдь не в размере электронного письма, но выходящая за рамки стандартных фраз/нескольких стандартных слов, поясняющую индивидуальные причины некоторых отодвигаемых звонков, по мнению и по опыту интервьюера стоящих такого индивидуального пояснения — например, если ситуация запутанна, или если интервьюер провёл длительный сложный рекрутинг, или если респондент имеет особенности, или если интервью переносится не впервые, и т. п.). Регламент колл-центра может предусматривать систему ограниченного числа коротких формулировок, каждая из которых вмещает в себя те или иные смыслы, поясняющие причину перевода звонка на другое время. При этом запись дат, времени исходного звонка для передачи коллегам — запрещаются, не производятся, а это было бы очень удобно и правильно. Например, респондент болеет, он просит не звонить ему до определённой даты — а недобросовестные и недумающие интервьюеры либо интервьюеры торопливые могут отложить звонок и на сегодня, и болеющий человек (зачастую простывший и физически не могущий говорить) вновь будет потревожен. Имея дату звонка, принимающий эстафету более добросовестный коллега-интервьюер (а таких немало) будет хотя бы готов к претензиям, или получит возможность отложить звонок на более отдалённую дату. Иначе — полная неизвестность, неконкретная стандартность записей, непринятие во внимание того факта, что интервьюер работает на уровне «человек — человек», а не «человек — машина» и тем более не «машина — машина».
Есть и другие случаи рабочего некорректного отношения интервьюеров друг к другу, кроме недостатка информации (по- рою волей регламента или супервайзеров). К таким фактам можно отнести:
-
— недостаток информации об отложенном звонке вплоть до полного отсутствия сопроводительной записи;
-
— несоблюдение стандарта регламента при описании отложенного звонка;
-
— при отказе поднявшего трубку назначение повторного звонка более одного раза;
-
— без разрешения поднявшего трубку — назначение повторного звонка «день-в-день»;
-
— неверно выбранный респондент (ошибка рекрутинга, и хорошо, если это выясняется до проведения интервью, а не при его завершении);
-
— неверное указание пола, имени и т. п. характеристик респондента при откладывании звонка (невнимательность интервьюера);
— назначение повторного звонка при уже отказе респондента.
А ведь взаимоуважительное отношение интервьюеров друг к другу (безличное!) вызывает ответную благодарность и предупредительность коллег, улучшает психологический климат в исследовательской компании. Учитывая это, нужно обучать интервьюеров принципам и правилам корректного рабочего вза-имодействия/взаимопомощи.
-
• Одновременное выдерживание двойного психологического пресса — со стороны респондентов и со стороны супервайзеров. Такая дискомфортная ситуация складывается тогда, когда от респондентов идёт поток отказов и негативных эмоций, а от супервайзеров — поток напоминаний о невысокой производительности. Это психологически очень сложная для интервьюера ситуация, в первую очередь для тех, для кого работа в колл-центре является основным источником дохода, т. е. работа полный день и полную рабочую неделю. Когда супервайзеры настаивают, их «прессинг» ухудшает психологический фон работы интервьюера, у него возникает ощущение «штрафника», когда впереди противник (респондент), позади заградотряд (норма выработки). Обычный мотив супервайзеров в таких ситуациях — «уговаривайте на опрос, вам платят за это деньги», но за что именно. За рекрутинг и за завершённое интервью. Обязан ли интервьюер принимать на себя психологический удар от уговаривания поднявшего трубку человека, не желающего участвовать в опросе? Нет, не обязан. Вправе ли интервьюер отказаться от психологически напряженного общения? Да, вправе, и психические защиты интервьюера именно так и срабатывают, не принимая во внимание требования регламентов, настойчивые просьбы супервайзеров и даже собственное упорство интервьюера в попытках провести интервью.
-
• Стратегические управленческие корректировки и нововведения в общий регламент ведения интервью или в регламенты ведения конкретных опросов — как правило, изменения касаются деталей трактовки того или иного вопроса, или ответа на вопрос, или критерия оценки, рекрутинга и т. п. Такие вмешательства в привычный ход опроса не часты и не редки, но могут сбивать интервьюера с толку, в зависимости от глубины нововведений. Но больше всего выбивают из психологической колеи не сами изменения, а такие принципиальные недоработки супервайзеров (и руководителей), как:
-
— неинформирование, неполное или ситуативное информирование интервьюеров с последующим замечанием супервайзера в сущности неповинному интервьюеру. Эта проблема решается легко — подтверждающим откликом интервьюера «понял», «принял», «услышал», но супервайзеры, к сожалению, не всегда требуют такого отклика;
— возвращение интервьюера к привычному поведению в опросе с последующим замечанием супервайзера интервьюеру (возврат делается неосознанно и на практике «отлавливается» контрольным прослушиванием завершённых интервью).
В данных случаях правильно не наказание и не претензия интервьюеру, а напоминание, возможно неоднократное, ведь доработки анкеты, порою многочисленные — уж точно не вина интервьюера, а быстро переучиться на новый лад способен не каждый.
В целом, проблема «кнута» в том, что кнутом обесценивается труд. Напоминания в форме требований наподобие «Уговаривайте!» или «Не опрашивайте много пожилых респондентов!» снижают мотивацию интервьюеров. Должен быть баланс поддержки и «рекомендации» (то есть по сути просьбы, требования, настояния, упрёка, со смыслом негативной оценки текущих результатов труда), а возможно и перевес в пользу поддержки. Из психологии можно вспомнить эксперимент с крысами, которые перестали жать на подкрепляющую кнопку после подведения тока к ней. Много негативной мотивации (подстёгиваний кнутом) может привести к тому, что, когда один раз в полгода интервьюеру скажут «Вы молодец», он ответит: «Ваш пряник засох и превратился в камень». Предполагаю, что лучше всего заранее спрятать и кнут, и пряник, и вынимать их только по действительно важным поводам, возможно даже не каждый день.
Супервайзеры стараются быть человечными, а не только эффективными. Это очевидно. Проблема в том, что интервьюеры разные, и универсального подхода не может быть, а искать индивидуальный подход нет времени, под это бюджет компанией не выделяется. В этом и состоит настоящая проблема. Интервьюеров нужно обучать не только алгоритму конкретного опроса, но и эффективным контактам, психологическим защитам, более явно разъяснять суть работы интервьюера, его должностные обязанности, психологические риски, порядок и содержание взаимодействия с супервайзерами.
Устранение психологических трудностей: психологический инструктаж (обучение) и психологическая поддержка (профилактика)
Основным принципом обучения интервьюеров пока остаётся «плавательный» -бросить человека в воду и посмотреть, выплывет ли. Действительно, способ экономный, возможно даже, для первой стадии отбора, действенный. Но нужно ли, правильно ли ограничиваться им? Нет. Более того, существующий инструктаж интервьюеров по анкете опроса часто осуществляется в режиме «читаем анкету вместе» / «пробежимся по анкете». Верен ли этот скоростной подход? Нет.
Кроме индивидуального опыта интервьюера, основными его помощниками в индивидуальной успешной работе являются два процесса — обучение и профилактика. Содержание этих двух процессов переплетено и едино своей целью — накопление знания о том или ином процессе или деталях процесса, что позволяет интервьюеру накапливать уверенность и опыт, является важной поддержкой для интервьюера. Различаются же обучение и профилактика тем, что обучение происходит накануне , а профилактика — во время или после индивидуального рабочего цикла, то есть конкретного интервью. Конечно, не каждого интервью, а по необходимости. Опыт показывает, что обучение и профилактика в отношении производственных алгоритмов — ознакомление с интервью, акцентирование внимания интервьюера на важных деталях интервью, обсуждение ошибок в ходе ведения интервью и рекрутинга, система штрафов и т. п. — неплохо отлажены и неплохо работают. Что же касается психологического обучения и психологической профилактики состояния интервьюера, то здесь дело обстоит… никак. А интервьюеров в первую очередь нужно научить главным правилам психологического защитного реагирования:
-
— не принимать на свой счёт;
-
— эмоционально отключаться или переключаться;
-
— знать и различать типы респондентов, чтобы быть готовым адекватно неразрушительно среагировать.
Ясно, что специальных курсов для интервьюеров социоло- гических колл-центров пока не придумано. Ясно, что у руководителей колл-центров и у руководителей исследовательских компаний хватает забот и без заботы о психологическом состоянии интервьюеров. Ясно, что заказчикам не хочется, чтобы себестоимость анкеты пополнилась ещё и расходами на поддержание психики интервьюеров в здоровом сбалансированном состоянии. Но что даёт отсутствие обучения интервьюера психологии взаимодействия с людьми по телефону и что даёт отсутствие профилактики психологических проблем интервьюеров, возникающих то в одном, то в другом телефонном контакте?
Ответ, который лежит на поверхности — снижение мотивации к работе (никто не побежит с радостью к телефону в ожидании «истерики» поднявшего трубку человека или даже просто взвешенного отказа, а мы помним, что таких людей — треть плюс треть, две трети поднявших трубку); эмоциональное закрытие интервьюера вплоть до, сознательного или бессознательного, самопозиционирования себя «роботом» (это значит безэмоциональный тон, нечувствие к отклонениям в речи респондента, игнорирование замечаний и предложений супервайзера, молчание в ответ на обращение супервайзера или крайне краткий ответ, и т. п. психические защиты). В результате — снижение эффективности своего труда (когда допускаются критичные ошибки в завершённых интервью, снижается количество завершённых интервью, появляется брак, повышается или понижается стоимость труда в виде, соответственно, удорожания одной качественно заполненной анкеты, либо удешевления отработанного рабочего дня — в зависимости от того, повременная или сдельная оплата труда интервьюера практикуется в колл-центре), негативное влияние на производительность колл-центра и исследовательской компании.
Ответ, который не лежит на поверхности — постепенное общее ухудшение психологического самочувствия интервьюера, связанное с постепенной психической переработкой полученной в ходе телефонных контактов информации, ощущений, эмоций, мнений. Интервьюер — обычный человек, и ему тоже, как и любому человеку, присущи механизмы работы психики, такие как отложенное восприятие (услышал сейчас — вспомнил и задумался позднее), неизбежность агрессивного отклика (нельзя достойно ответить респонденту — можно выплеснуть полученный в ходе телефонного интервью негатив на других людей, начиная от супервайзера и членов своей семьи и заканчивая любым случайным человеком на улице, в магазине, в транспорте), принцип удовольствия (стремление приблизиться и максимизировать то, что кажется позитивным и привлекательным, и одновременно стремление отдалиться и минимизировать то, что кажется негативным и отталкивающим), и так далее, что выливается в психологический дисбаланс личности.
Не углубляясь в негативное влияние таких психологически разбалансированных своей работой людей на общество в целом и отдельные его группы, и, с другой стороны, не углубляясь в накопление таких индивидуальных реакций как депрессивность, плохой сон или обострение соматических заболеваний, достаточно увидеть лишь то, что «психологически упавший» или «падающий» интервьюер, скорее всего, оставит эту свою работу, и его нужно будет заменять новым, обучать, и цикл повторится. В группе риска таких неочевидных, не лежащих на поверхности, психологических профессиональных отклонений — прежде всего интервьюеры молодого возраста, а также не имеющие личной семьи одинокие интервьюеры и одинокие родители (считающие это для себя личной проблемой), а также люди природно темпераментные и эмоциональные, и так далее, то есть, в целом, все те интервьюеры, кто недостаточно психологически (неважно позитивно или негативно) устойчив вне рабочего пространства, кого могут «достать» многочисленные эмоционально неустойчивые люди, поднимающие трубку телефона в ответ на «опросный» звонок.
А, тем не менее, психологическое обучение интервьюера и психологическая профилактика профессионального выгорания (речь именно об этом) возможны и могут быть не так обременительны для исследовательской компании, как это может показаться. Конечно, идеальный вариант — штатный психолог, но только именно психолог, то есть специалист, полностью исполняющий функции психологического обучения и профилактики, полный рабочий день, полную рабочую неделю, ни с какими другими функциями своё присутствие в исследовательском колл-центре не совмещающий. Задача такого специалиста — установление контакта с каждым интервьюером, в том числе удалённым (и супервайзером), обретение понимания его стиля работы, нахождение и подсказка приемлемых для данного конкретного интервьюера психологических приёмов работы, доведение этой информации до сведения супервайзеров с целью понимания ими индивидуальных стилей работы интервьюеров (безусловно с соблюдением этики взаимодействия психолога и его подопечного), оперативная психологическая поддержка интервьюеров и супервайзеров. Представляется, что крупные исследовательские компании вполне могут позволить себе такую должность, если они ориентируются на создание сколько-то постоянного штата профессиональных интервьюеров.
На первых порах, в качестве срочной меры, можно разработать и внедрить некий краткий перечень советов и рекомендаций интервьюеру, который поможет начинающему работнику яснее представить себе «поле» телефонных опросов и заранее знать, как можно, как допустимо, а как категорически не рекомендуется вести себя в разных психологических ситуациях телефонного интервью, с разными психологическими типами людей — своеобразный «психологический инструктаж». Такой инструктаж необходимо проводить накануне начала работы интервьюера-новичка. Разработан такой инструктаж может быть совместно представителями супервайзеров, руководителей и интервьюеров из тех, кто имеет достаточный опыт, идеи, а возможно даже психологическое образование или, что ещё ценнее, профессию психолога. Помощь работе колл-центра такой инструктаж окажет неоценимую.
Может показаться, что заранее предупредить интервьюера-новичка о психологической специфике будущей работы — это всё равно, что оттолкнуть его от интервьюерской стези, но это не так — интервьюерами становятся не самые пугливые люди, скорее наоборот, и это люди общительные и неглупые, а помочь им освоиться и не допустить с самого начала грубых психологических ошибок — вот обязанность более старших и опытных коллег. Психологические неудачи в начале пути плохо сказываются на самооценке, удача же — придаёт крылья.
Изменение отношения населения к опросам общественного мнения
Экономические и социологические курсы, дисциплины и программы есть сегодня, наверное, в каждом профессиональном образовательном учреждении, и даже в школах (по крайней мере, в частных). Это означает, что благотворная роль социальных и рыночных исследований объясняется каждому обучающемуся. Однако на практике мы видим, что более половины россиян предпочитают отказаться от участия в опросе, нежели уделить время и ответить на вопросы анкеты, при этом около трети отказывающихся делают это в эмоционально неприемлемой для нормального человеческого общения форме.
Пропаганда участия посредством СМИ. Результаты социологических опросов и рыночных исследований широко используются средствами массовой информации, но можно сказать, что одна рука их зачастую «не знает», что творит другая — одной рукой СМИ результаты опросов используют, другой призывают относиться к опросам осторожно, избегая мошенников, — так формируется негативный образ всех без исключения исследовательских компаний, и, конечно, позиция «чет- вёртой власти» гражданами не игнорируется, принимается во внимание, используется буквально, как руководство к действию. В результате бдительность граждан начинает мешать полезному социальному взаимодействию. Например, в феврале 2017 года респондентка из Твери, взрослая женщина, отреагировала на приглашение принять участие в опросе так: «А вот Вы знаете, по тверскому телевидению объявляли, что мы не обязаны отвечать на статистические опросы. Так что вот. До свидания».
Единственный толерантный из всех «бдительных» респондентов мне встретился в 2017 году в Ростове-на-Дону, мужчина 70 лет, работает, руководитель подразделения в крупной организации: «Не говорите с незнакомыми людьми. Ваша информация может быть использована / истолкована неверно». Прежде чем говорить с нами, взял наш контрольный телефон, позвонил по нему, убедился в наличии компании, задачах компании, существовании проводимого опроса, ответил на вопросы анкеты, поделился информацией о том, что звонил предварительно на наш контрольный телефон. Но это только один человек на тысячи! Исследователей не знают, для получения информации о них нужно приложить усилия и потратить время и деньги (телефон исследовательской компании для контроля гражданами — не бесплатный 8-800), большинство граждан делать этого не станут.
Можно ли как-то исправить ситуацию? Да, можно. Если СМИ являются потребителями исследовательских данных, то почему бы СМИ не принять участие, на безвозмездной, условно-возмездной или возмездной основе, в пропаганде участия граждан в социальных, социологических, рыночных исследованиях и опросах? В моей практике, например, за 20 месяцев практически ежедневной работы в колл-центре одной из крупнейших исследовательских компаний страны только дважды мне встретились респонденты, знакомые с именем представляемой мною исследовательской компании — маркетолог из Нижнего Новгорода в ноябре 2015 года, и менеджер из Ростова-на-Дону в апреле 2016-го.
Конечно, не каждой исследовательской компании по карману оплатить такое «участие» СМИ, но сделать узнаваемыми и достойными априорного доверия несколько наиболее авторитетных федеральных и региональных исследовательских и социологических брендов и телефонных номеров, с которых россиянам поступают звонки исследователей — наверное, не такая невероятная задача. Как сейчас граждане реагируют на звонки с незнакомых телефонных номеров? Блокируют (на смартфонах это делается бесплатно и быстро), игнорируют (не берут трубку), изучают отзывы на специальных интернет-сервисах (типа «Могу взять трубку?»). Теоретически, какая-то форма поддержки возможна и от таких сервисов, если речь идёт о социально значимых исследовательских проектах, организациях. За пример можно взять также опыт государства — рекламу участия в Переписи населения, когда граждан научили не бояться интервьюеров.
Пропагандой участия СМИ помогут и себе (улучшением качества исследовательской информации за счёт большей активности и разнообразия респондентов), и обществу (статистически значимыми исследовательскими данными), и исследователям и социологам (ростом контактности граждан), и гражданам (ощущением безопасности участия в опросах и сознанием созидательного участия). Как осуществить пропаганду участия — задача, на мой взгляд, гораздо менее сложная, чем принятие принципиального решения о собственно запуске такой пропаганды, и разработка деталей не вызовет у специалистов каких-либо проблем.
Обучение населения интервьюерами. Это одна из форм пропаганды участия и, одновременно, отказ от уговаривания респондентов на опрос. Если интервьюер чувствует, что респондент колеблется, правильнее будет не уговаривать респондента, а разрешить его сомнения. Как правило, суть сомнений
— не мошенник ли интервьюер, справится ли респондент с опросом, не попадут ли ответы респондента в посторонние руки, не слишком ли личными будут вопросы, стоит ли вообще участвовать в опросе и т. п. — заключается в безопасности и целесообразности участия. Спокойные грамотные пояснения интервьюера, если даже не принесут интервьюеру завершённое телефонное интервью, то оставят благоприятное впечатление об исследовательской компании, а это ресурс будущего.
Выводы
Об особенностях современного восприятия телефонных опросов населением России . Телефонные опросы сегодня не любят, чему в немалой степени поспособствовали мошенники и телефонные торговцы. Поэтому порядка 20% телефонных звонков с незнакомых телефонных номеров остаются без ответа (никто не берёт трубку), около трети поднявших трубку людей реагируют негативно-эмоционально и бросают трубку, ещё около трети отвечают вежливым аргументированным отказом. Те люди, кто отвечают на вопросы телефонных интервью, делают это по двум основным причинам — добрая воля и социальная ответственность, хотя полный перечень мотивов разнообразнее.
О психологических особенностях работы интервьюеров социологических колл-центров. Психологический фон работы телефонных интервьюеров складывается из психологического фона звонков и психологического фона взаимодействия с супервайзерами. Позитивный настрой увеличивается доброжелательностью респондентов и поддержкой супервайзеров. Негативный настрой прирастает числом грубых ответов респондентов, числом просьб и требований супервайзеров, вынужденными нарушениями этики интервьюера (звонки после 20 часов, опрос детей без разрешения родителей, упрашивание респондентов принять участие в опросе). В настоящее время основная психологическая трудность работы интервьюера состоит в том, что воздействие на него негативных психологических факторов происходит мощнее и чаще, нежели воздействие позитивных.
О способах решения психологических проблем в работе интервьюеров социологических колл-центров. Существует три основных способа — обучение интервьюеров (и супервайзеров), профилактика профессионального выгорания интервьюеров (и супервайзеров), обучение общества участию в опросах (при помощи СМИ и силами интервьюеров).
В целом, в колл-центре жизненно необходимы:
1 Служба психологической поддержки как постоянное рабо . чее звено.
2 Предварительная психологическая подготовка интервьюе-.ров (и супервайзеров) — психологический инструктаж — как профилактика профессионального выгорания.
3 Дебрифинг как периодический способ психологической . разрядки с психологом.
Обучение сотрудников необходимо не только навыкам и алгоритмам ведения интервью, но и специальным навыкам психологического взаимодействия с телефонным собеседником и респондентом, навыкам быстрого самовосстановления и психологической устойчивости интервьюеров и супервайзеров. Одним инструктажом или тренингом здесь не обойтись, для психологической компетенции сотрудников потребуется наработка навыков и периодическая работа над ошибками, желательно под руководством опытных психологов-профессионалов.
Список литературы Психологические трудности в работе интервьюеров социологических колл-центров (CATI) и способы их преодоления
- Международный кодекс ICC/ESOMAR, 2016 год // URL: https://www.esomar.org/ uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Russian_.p df (31.10.2018)
- Массовые опросы: Введ. в методику демоскопии: Пер. с нем. / Э. Ноэль.; Общ. ред., вступ. и заключ. ст. Н.С. Мансурова. - 2-е изд. - Москва: АВА-ЭСТРА, 1993. - 272 с
- Рабочая книга социолога. Отв. ред. Осипов Г. В. - М.: Издательство «Наука», 1976
- Рынок маркетинговых исследований в России в 2017 году // URL: http://researchwee k.ru/analytics (31.10.2018)