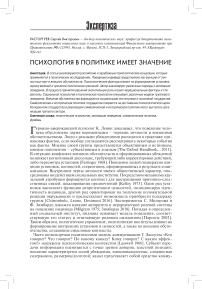Психология в политике имеет значение
Автор: Расторгуев Сергей Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются российские и зарубежные психологические концепции, которые применяются в политических исследованиях. Поведение индивида представлено как функция от личностных черт и внешних обстоятельств. Психологические факторы влияют на формирование установок, оценку явлений и принятие политических решений. Автор анализирует различные подходы к мотивации поведения. В процессе принятия решений значительную роль играют иррациональные факторы и стереотипы. Социальная психология и политическая психология описывают различные модели группового поведения. Внешние обстоятельства формируются социальными институтами и политикой государства. Символическая и историческая политика государства опирается на достижения психологической науки. Конкурентом государства в реализации символической и исторической политики могут выступать организации третьего сектора.
Политическая психология, мотивация поведения, символическая политика, фреймы
Короткий адрес: https://sciup.org/170191694
IDR: 170191694 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8794
Текст научной статьи Психология в политике имеет значение
Г ермано-американский психолог К. Левин доказывал, что поведение человека обусловлено двумя переменными – чертами личности и внешними обстоятельствами. Люди с разными убеждениями расходятся в трактовке одинаковых фактов, если вообще соглашаются рассматривать некоторые события как факты. Мнение своей группы представляется объективным и истинным, мнение оппонентов – субъективным и ложным [The Oxford Handbook... 2011]. В ситуации конфликта внешних обстоятельств и сформированных убеждений возникает когнитивный диссонанс, требующий либо корректировки действий, либо пересмотра установок [Festinger 1968]. Поведение людей подвержено влиянию установок, ценностей, стереотипов, сформированных в результате социализации. Внутренние черты личности имеют общественный характер, опосредованы воздействием социальных институтов. Посредством механизма каузальной атрибуции формируется контекст для выстраивания причинно-следственных связей, шкалирования предпочтений [Kelley 1973]. Один ряд установок выполняет функцию репрезентации ценностей, позиционируя идентичность индивида, другой ряд ориентирован на получение положительной реакции окружающих и предоставляет возможность приобрести поддержку группы [Chirumbolo, Leone, Desimoni 2016]. Эксперименты С. Милгрэма и Ф. Зимбардо доказали влияние авторитета и иерархической ролевой системы на поведение индивида [Milgram 1975; Зимбардо 2018]. Попадая в определенный социальный институт, индивид осваивает модель поведения, соответствующую его статусу и отвечающую ролевым ожиданиям [Парсонс 2002]. Таким образом, политическое управление, политические институты влияют на формирование внутренних установок и ценностей, а также на внешние обстоятельства, создающие смысловые контексты.
Часто используемая политологами модель коммуникации Г. Лассуэла «Кто говорит? Что говорит? По какому каналу? Кому говорит? С каким эффектом?» нагружена психологическим контекстом [Lasswell 1966]. Субъект передачи информации оценивается с точки зрения доверия, властной позиции; послание характеризуется силой убеждения, эмоциональностью, сложностью содержания, размером/долготой; канал представляет собой средство комму- никации – текст, видео, аудио; реципиент сообщения сегментируется по возрасту, гендеру, образованию, профессии, доходу; эффект фиксирует, насколько сообщение повлияло на изменение поведения реципиента. Данная модель перекликается с маркетинговой стратегией AIDA – внимание, интерес, желание, действие [Хейг 2019]. Эффективность восприятия информации зависит от таких характеристик реципиента, как имеющиеся политические предпочтения, гомогенность новой информации и уже имеющихся знаний, концентрация внимания в момент приема.
Понимание мотивов политического поведения индивидов связано с психологическими концепциями мотивации. Можно в качестве отправной идеи использовать постулат, что мотив представляет собой психологическое состояние, а значит формируется самим субъектом. Мотивы коллективных действий можно охарактеризовать как сумму мотивов индивидов. Коллективные действия могут мотивироваться чувством солидарности с групповыми идентичностями: семьей, нацией, корпорацией, государством. В качестве мотиваторов (стимулов) выступают внутренние и внешние факторы.
В литературе существуют разные подходы к иерархии указанных факторов. Так, представители теории рационального выбора обосновывают мотивы деятельности сознательным выбором максимально полезной стратегии для приобретения выгод, при этом актор ранжирует свои предпочтения и оценивает ресурсный потенциал для достижения цели. Индивид как «хомо экономикус» озабочен количеством и качеством благ, но не ценностями и социальными процессами [Остром 2010]. Исследования Д. Канемана и Р. Талера поставили под сомнение центральное положение данной теории: человек чаще принимает решение на основе системы 1 – иррациональной и стереотипной и реже пользуется системой 2 – рациональной и аналитической [Канеман 2015; Талер 2016]. В политических процессах эмоции и аффекты зачастую выступают триггерами действий индивидов и групп, особенно в массовых протестах, военных столкновениях, межэтнических конфликтах.
Классическая пирамида потребностей А. Маслоу предлагает в качестве мотивов поведения рассматривать стремление к удовлетворению разноуровневых потребностей – от биологических до идеальных. Устойчивые личностные черты (установки, ценности) признавали мотиваторами, наряду с внешними факторами, такие ученые, как К. Мадсен, Дж. Аткинсон [Madsen 1974; Atkinson, Kuhl 1986]. Практические эксперименты в теории игр показали, что представления о справедливости мотивируют игроков карать жадность. В играх «Ультиматум», «Общественное благо» индивиды демонстрировали образцы «нерационального» поведения, отказываясь от выгоды или идя на определенные издержки для наказания нарушения понятий о справедливости и стратегии «безбилетника» [Диксит, Скит, Рейли-мл. 2017].
На политическое поведение, помимо личностных черт, значительное влияние оказывают факторы внешней среды в форме специфики конкретной ситуации (особенности конфигурации акторов, ресурсов, стратегий); наличествующей социальной системы (со статусно-ролевыми иерархиями); конкретно-исторического времени (диапазон действий и мыслей определяется возможностями конкретной эпохи, господствующим дискурсом, в терминологии М. Фуко). В частности, внешняя мотивация может осуществляться посредством приказа, просьбы, убеждения, совета и др. Политики создают и «продают» образы будущего, оценки исторического прошлого, используя психологический феномен страха: граждане предпочитают стратегии консервативного сохранения имеющихся ресурсов и безопасности стратегиям получения больших выгод и риска. Политики искусственно создают или выявляют имеющиеся страхи общества для эффективного управления массами, граждане принимают или преодолевают страхи.
Для концептуализации оценки актуализированного прошлого, современных социальных условий, прогноза будущего развития, мотивации к принятию определенных идей и решений, алгоритма достижения целей используется понятие «фрейм». Политики создают фреймы для мобилизации сторонников в форме ментальных схем и коммуникационных техник репрезентации идей [Snow, Vliegenthart, Ketelaars 2019]. Фрейм является более узким понятием, нежели дискурс; в отличие от идеологии, он менее разработан и нормативен. Противоборствующие политические силы создают фреймы для позиционирования в сознании граждан своих отличительных черт и конкурентных преимуществ. При необходимости привлечь союзников фрейм может быть расширен. В авторитарных режимах фреймы могут принимать форму фигур умолчания, подтекста, иронии, аналогии, поскольку в рамках легальной деятельности внесистемная оппозиция исключена из формирования повестки дня.
Как правило, мотивы не сводимы к одному-единственному мотиву, на индивидуальном уровне они подвижны, ситуативны. Более устойчивыми представляются групповые интересы в форме желаемых целей формальной или неформальной организации. Концепция групп интересов в определенной степени совпадает с марксистским подходом: материальные интересы социальных групп (организаций или классов) определяют мотивы политической деятельности [Олсон 1995; LaVaque-Manty 2006]. В случае выявления приоритета ценностей – религии, идеологии и др. – сторонники групп интересов и марксисты указывают на обратное влияние «надстройки», которое носит нерациональный характер.
Если внутренние черты личности соответствуют модели «авторитарной личности» Т. Адорно (подчинение авторитету, нетерпимость к меньшинствам, социальный конформизм), а управление основано на радикальной идеологии, исключительной идентичности, манипулировании информацией, то с высокой долей вероятности сформируется авторитарный или тоталитарный режим [Адорно 2012]. Социальная психология, разрабатывающая концепции и модели группового поведения, предоставляет теоретические рамки и экспериментальные данные, которые используются для анализа политических процессов в различных политических системах [Майерс 2019]. Психологические характеристики политических режимов изучает политическая психология, исследующая этнические стереотипы, символы, образы, картины мира, ценности, идентичность. В исследовательском поле данной субдисциплины находятся психологические аспекты политического лидерства, политического участия, функционирования институтов, политической социализации, электорального поведения [Шестопал 2019].
С психологическим контекстом связаны символическая политика и историческая политика [Малинова 2015; Символическая политика 2012; Символическая политика 2014]. Символическая политика, которая представляет собой производство и поддержку смыслов в форме политических акций, мифов, ритуалов, содержания школьных программ, одобренных речевых практик, праздников и др., направлена на формирование государственно-национальной идентичности. Историческая политика нацелена на формирование патриотизма посредством определенной интерпретации истории страны. В рамках исторической политики осуществляется апологетика политических акторов данного государства, позитивные оценки их деятельности закрепляются в качестве нормы и не подлежат альтернативной интерпретации.
Символическая и историческая политика реализуются прежде всего го- сударством для укрепления легитимности правящих групп. Одновременно они организационно и финансово поддерживаются группами интересов (фонды, сообщества, СМИ), выступающими бенефициарами закрепления смыслов в определенном ракурсе. Символическая и историческая политика нацелены на создание единой когнитивной, ценностной, эмоциональной, поведенческой платформы у разных поколений с помощью прежде всего иррациональных (аффективных) форм воздействия [Селезнев, Александров 2021; Шатилов 2021]. Для исторической политики характерно запоминание и актуализация побед, коллективных травм и забвение поражений (вины) [The Oxford Handbook… 2011]. Таким образом, исследовательским полем политологов является выявление современных групп интересов, способствующих легитимации определенной интерпретации смыслов для достижения своих целей.
Список литературы Психология в политике имеет значение
- Адорно Т. 2012. Исследование авторитарной личности (пер. с англ. М.Н. Попова, М. Кондратенко). М.: Астрель. 473 с.
- Зимбардо Ф. 2018. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в плохих (пер. с англ. А. Стативка). М.: Альпина нон фикшн. 890 с.
- Диксит А., Скит С., Рейли-мл. Д. 2017. Стратегические игры. Доступный учебник по теории игр (пер. с англ. Н. Яцюк; науч. ред. А. Минько). М.: Манн, Иванов и Фербер. 880 с.
- Канеман Д. 2015. Думай медленно... решай быстро (пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой). М.: АСТ. 653 с.
- Майерс Д. 2019. Социальная психология (пер. с англ. З.С. Замчук). СПб: Питер. 800 с.
- Малинова О.Ю. 2015. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.
- Олсон М.1995. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп (пер. с англ.). М.: Фонд экономической инициативы. 165 с.
- Остром Э. 2010. Теория рационального выбора коллективного действия. Бихевиористский подход. — Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С. 5-52.
- Парсонс Т. 2002. О социальных системах. М.: Академический Проект. 832 с.
- Селезнев П.С., Александров Д.В. 2021. Позиционирование событий Великой Отечественной войны в рамках государственной политики памяти: проблемы и перспективы. — Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 11(3). С. 33-38.
- Символическая политика. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс: сборник научных трудов. 2012. М.: ИНИОН РАН. 334 с.
- Символическая политика. Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего: сборник научных трудов. 2014. М.: ИНИОН РАН. 382 с.
- Талер Р. 2016. Новая поведенческая экономика (пер. с англ. Е.А. Прохоровой). М.: Бомбора. 550 с.
- Хейг П. 2019. Управленческие концепции и бизнес-модели. Полное руководство (пер. с англ. В.М. Ионова). М.: Альпина Паблишер. 380 с.
- Шатилов А.Б. 2021. Деятельность органов государственной власти Российской Федерации по формированию исторических представлений студенческой молодежи в постсоветский период. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 11(3). С. 15-26.
- Шестопал Е.Б. 2019. Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018). - Полис. Политические исследования. № 1. С. 9-20.
- Atkinson J.W., Kuhl J. 1986. Motivation, Thought, and Action. Praeger. 407 p.
- Chirumbolo A., Leone L., Desimoni M. 2016. The Interpersonal Roots of Politics: Social Value Orientation, Socio-Political Attitudes and Prejudice. - Personality and Individual Differences. Vol. 91. P. 144-153.
- Festinger L. 1968. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press. 291 p.
- Kelley H.H. 1973. The Processes of Causal Attribution. - American Psychologist. Vol. 28. P. 107-128.
- Lasswell H.D. 1966. The Structure and Function of Communication in Society. -Reader in Public Opinion and Communication (ed. by B. Berelson, M. Janowitz). N.Y.: The Free Press. P. 178-189.
- LaVaque-Manty M. 2006. Bentley, Truman, and the Study of Groups. - Annual Review of Political Science. Vol. 9. P. 1-18.
- Madsen K.B. 1974. Modern Theories of Motivation: A Comparative Metascientific Study. John Wiley & Sons. 472 р.
- Milgram S. 1975. Obedience to Authority: An Experimental View. N.Y.: Harper & Row. 224 p.
- Snow D.A., Vliegenthart R., Ketelaars P. 2019. The Framing Perspective on Social Movements: Its Conceptual Roots and Architecture. - The Wiley BlackwellCompanion to Social Movements (ed. by D.A. Snow, S.A. Soule, H. Kriesi, H.J. McCammon). 2nd edition. John Wiley & Sons Ltd. P. 392-410.
- The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis (ed. by R.E. Goodin, Ch. Tilly) 2011. Oxford University Press. P. 133-224.