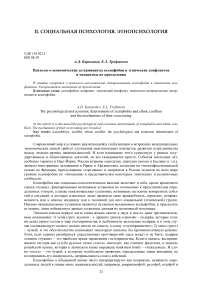Психолого-экономические детерминанты ксенофобии и этнических конфликтов и механизмы их преодоления
Автор: Карнышев Александр Дмитриевич, Трофимова Елена Леонидовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Социальная психология. Этнопсихология
Статья в выпуске: 5, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье говорится о психолого-экономических детерминантах ксенофобии и этнических конфликтов. Раскрываются механизмы их преодоления.
Ксенофобия, конфликт, этнический конфликт, психолого-экономические детерминанты ксенофобии, the psychological and economic determinants of хenophobia
Короткий адрес: https://sciup.org/148178892
IDR: 148178892 | УДК: 159.922.4
Текст научной статьи Психолого-экономические детерминанты ксенофобии и этнических конфликтов и механизмы их преодоления
Современный мир в условиях реализующейся глобализации и возросших международных экономических связей требует улучшения межэтнических контактов, развития сотрудничества между людьми разных национальностей. И хотя понимание этого существует у разных государственных и общественных деятелей, не все складывается просто. События последних лет, особенно теракты в Нью-Йорке, России (взрывы самолетов, трагедия школы в Беслане и т.п.), захваты иностранных заложников в Ираке и Афганистане, коллизии на этноконфессиональной основе во Франции, преследование «торговцев» и мигрантов в России подняли во всем мире уровень ксенофобии по отношению к представителям некоторых этнических и религиозных сообществ.
Ксенофобия как социально-психологическое явление включает в себя, кроме архаичного страха «чужих», фиксированные негативные установки по отношению к представителям определенных этносов, а также окказиональные установки, возникшие на основе конкретных событий и ситуаций, в которых известные люди проявили свою враждебность, агрессию, неприязненность или к самому индивиду или к значимой для него социальной (этнической) группе. Именно окказиональные установки являются пусковым механизмом ксенофобии, и преодолеть ее можно, лишь нейтрализуя данные установки, снижая их негативный потенциал.
Этимологически первую часть слова можно свести к двум в чем-то даже противоположным основаниям: 1) xenia (греч. ксении) – у древних греков и римлян – подарки, которые хозяин делал своим гостям в знак гостеприимства, в особенности застольные подарки; и в этом случае составляющую «ксено» можно свести по смыслу к слову «гостеприимство»; 2) xenos (греч.) – чужой, и это обстоятельство показывает некоторую казалось бы противоположную реалию. Хотя, если хорошо разобраться существенных противоречий здесь может и не быть: подарки хозяина «чужим» – это наиболее яркие проявления гостеприимства. Кстати сказать, воспринимаемое сегодня как сугубо русское слово «гость» нисходит, как считают филологи, к индоевропейской основе, которая в латинском языке выражена понятием hostis – «чужеземец». И слово «гость» – это чужой, к которому необходимо проявлять определенные знаки внимания, не подчеркивать его инородность, непривычность слов и действий.
Ксенофобию в обыденной жизни часто интерпретируют как неприязнь, ненависть определенных людей к лицам иных национальностей, например, американофоб, русофоб, юдофоб и т.д. Но такая трактовка, на наш взгляд, несколько неточна, поскольку не раскрывает некоторых нюансов слова. Это относится, прежде всего, к составляющей «фобия» (греч. fobos – страх). Можно не любить, ненавидеть что-то, совершенно не боясь его. Например, ярый сторонник национализма из какой-либо страны может относиться к представителям других наций высокомерно и надменно, по принципам: «Мы выше вас, и опускаться до вас мы не будем», «Нам до вас нет дела». В таких реакциях может не быть и капли страха. Ксенофобия же и ее конкретные инварианты может и должны рассматриваться как явление, несущее в себе психологические отголоски страха разных уровней и «величины».
Последнее обстоятельство переводит понятие ксенофобии в разряд психофизиологических феноменов, не умаляя, естественно, его социальной детерминации. «Порог возникновения страха, также как и пороги возникновения других фундаментальных эмоций, находится под влиянием индивидуальных различий, имеющих биологическую основу, индивидуального опыта и общего социокультурного контекста происходящего. Врожденные пусковые механизмы или естественные причины страха включают одиночество, незнакомость, высоту, неожиданное приближение, неожиданное изменение стимула и боль» [4. С.426]. Биологические корни ксенофобии делают ее у многих индивидов устойчивой и трудно преодолимой константой.
Такой подход позволяет, на наш взгляд, рассматривать разного рода «страхи чужих» в качестве трехслойного образования.
-
1. Глубинный страх перед чем-то новым, неожиданным, непонятным и потому опасным, способным принести человеку ощутимый вред.
-
2. Фиксированные установки и социальные стереотипы, полученные в ходе межличностных и межгрупповых отношений, отражающие опасность, рискованность взаимодействия с людьми некоторых национальностей, возможные угрозу и (или) коварство с их стороны.
-
3. Окказиональные (лат. occasionalis – случайный), «рожденные по случаю» установки, возникающие на основе конкретных событий и ситуаций, в которых известные люди проявили свою враждебность, агрессию, неприязненность или к самому индивиду или к значимой для него социальной (этнической) группе.
Попытаемся кратко проанализировать перечисленные структурные компоненты ксенофобии.
-
1. Показывая генетическую, давнюю сущность страхов, в том числе по отношению к представителям иных сообществ, полезно привести мысль Ивана Варда: «Объект фобии не является пугающим сам по себе, источник страха находится в самой психике» [5. С.24]. Данное высказывание отражает тот факт, что, прежде чем бояться других, человек с незапамятных времен культивировал эту боязнь в себе. Страх перед чужими взращивался и закреплялся в эмоциональной сфере человека с древности. Это был или вполне естественный атрибут психики, или установка, «впитанная с молоком матери». Для того чтобы раскрыть последний момент, остановимся на одном сибирском примере. У бурят есть понятие «баабай» – отец, пожилой, почтенный, уважаемый человек. Но встреча маленького ребенка русской национальности с «не очень красивой» по традиционным русским меркам старческой внешностью такого аборигена, могла сопровождаться существенным испугом. Поэтому у женщин смешанных районов и населенных пунктов Прибайкалья в ходу была весьма оригинальная колыбельная песенка: «Баю-бай, баю-бай, не ходи, старик бабай, не ходи, старик бабай, наших деток не пугай».
-
2. Неожиданность, несхожесть других с «нами», а отсюда непредсказуемость их поведения сами по себе вызывали боязнь, ставшую спутницей человека. В то же время в дело вступили собственно экономические факторы. Изолированность одних племен от других, их полная, связанная с естественным добыванием пищи и одежды в природе хозяйственная независимость долгое время стимулировали неприязнь к чужим, поскольку последние нередко становились конкурентами или легко могли выступить в своей враждебной ипостаси, стать захватчиками и узурпаторами «нашей собственности и плодов труда».
-
3. «Пусковым механизмом» ксенофобии во многих случаях становятся, как уже говорилось, окказиональные установки. Возникнув по случаю, зачастую неприятному и травмирующему, они закономерно приводят в действие психологические образования «нижележащих» уровней, и соответствующее состояние закрепляется в психике.
История первых межэтнических, межнациональных и впоследствии межгосударственных контактов изобилует драматическими событиями. Страх отдельного индивида и этнической группы в целом конкретизировался, персонифицировался по отношению к определенным народам и их представителям. Причинами выступали не только социально-экономические обстоятельства соперничества и конкуренции, но и сугубо психологические детерминанты – несхожесть правовых обычаев, внешности и т.п. Вот лишь два примера, связанные с российской действительностью.
Особую роль в рождении, так сказать, бытового страха даже при отсутствии враждебных отношений играли внешняя несхожесть, заметное различие в обликах, о реакции на которые русских жителей Сибири мы говорили выше. Аналогичные детерминанты страха на антропологическую несхожесть европейского типа наблюдались и у аборигенных народов. В.Серошевский, известный исследователь якутов, приводит соответствующую реакцию у данного этноса. Так, среди них было распространено наименование русских: «нучча», «учча», «лучча», и эти слова, особенно последнее, были заимствованы у тунгусов. Близкие названия русских были у других азиатских народов: юраки и самоеды зовут русских «люсе», китайцы, монголы, буряты и многие южные и западные сибирские инородцы звали русских «лоча» Этимологически в тунгусском языке слово «лучча» значило «чучело», «пугало», «урод». Негативное отношение к внешности русских показывают описания дьявола в якутских сказках, где он всегда схож с соответствующим образом. «По-видимому, им особенно были противны именно типичные черты арийцев: длинный нос, борода, впалость глаз. И теперь еще якуты относятся с отвращением к этим признакам [23, С.240. Подчеркнуто нами. – А.К., Е.Т. ].
Сегодняшняя реальность межнациональных отношений, преподносимая средствами массовой информации и Интернетом, дает пищу для фиксации ксенофобических реакций разных уровней. В краткой статье перечислить их все невозможно, поэтому попытаемся очертить некоторые из социально-психологических и психолого-экономических фобических потенциалов:
-
V страх утраты родной земли или какой-то ее части;
-
V боязнь за собственную жизнь и возможную потерю здоровья (включая страх боли);
-
V боязнь за судьбы, жизни и здоровье близких;
-
V страх перед биологическим вырождением своего этноса;
-
V боязнь унижения себя и своего этноса;
-
V боязнь потери «своего лица» перед значимыми людьми в силу некомпетентных нападок;
-
V боязнь за ликвидацию привычных ценностей и установившихся традиций;
-
V страх перед «цветной опасностью»;
-
V боязнь полной (частичной) ассимиляции своей этнической группы;
-
V страх утраты возможных льгот и привилегий, завоеванных «нашими людьми», заслуженных отцами и дедами;
-
V боязнь оказаться в экономическом проигрыше из-за слабых потенциалов соперничества, неконкурентоспособности, деловых качеств.
Названные внутренние детерминанты ксенофобий можно продолжать в соответствии с конкретными обстоятельствами, происходящими в современном мире. Причем в их развитии и закреплении наблюдаются заметные парадоксы, связанные, прежде всего, с разными ситуациями международной обстановки. Факторами, усугубляющими или, наоборот, смягчающими ксе-нофобические реакции, являются, в первую очередь, социальные и экономические неурядицы или же хозяйственные успехи в жизни разных стран, политические спекуляции или миролюбивые заявления государственных и общественных деятелей, негативные или толерантные позиции религиозных и национальных лидеров и, конечно же, индивидуализм или коллективизм психологии конкретных этносов, который порой весьма противоречиво влияет на ксенофобию людей (кстати сказать, многочисленные террористические группы в мире проявляют чудеса коллективизма и интернационализма).
Ксенофобия в совокупности с агрессией чаще всего выливается в этнические конфликты на разных уровнях или в реальные случаи негативных оценок лиц других национальностей по каким-либо внешним критериям. Иллюстрируя данную мысль, остановимся на примерах из наших исследований. В опросах жителей Бурятии и Иркутской области мы выявляли их мнение относительно причин конфликтов между представителями разных этносов (табл. 1)
Таблица 1
Авторы благодарят студентов психологического отделения БГУЭП Е. Иванову и В. Казаринова за помощь в проведении и обработке данных исследования.
Причины конфликтов между людьми разных национальностей по результатам опросов (частое проявление)
Из приведенных данных таблицы видно, что в качестве основных причин опрошенные Иркутской области указали следующие: недружелюбные, а подчас и враждебные высказывания о людях другой национальности; соперничество за выгодные условия; обман, мошенничество при обслуживании «чужих»; соперничество за рабочие места и высокую зарплату; назначение на престижные должности по родственным и земляческим связям, причем по всем (кроме 13) позициям наблюдается негативная тенденция возрастания значимости этих причин от года к году. По всем опросам ряд доминирующих причин сохраняет свою устойчивость (позиции 1,3, 12). Намечается также динамика повышения показателей по пунктам 4,5,7,8, позиции 6,10,11 остаются стабильными и лишь по пункту 3 (хулиганские действия на межнациональной почве) заметно небольшое снижение значимости данной причины (скорее всего, в пределах статистической погрешности). При всем этом хотелось бы подчеркнуть количественное возрастание детерминант социально-экономического характера (2,6,8,12). Мы обнаруживаем также, что в двух Прибайкальских регионах есть заметные различия в общей оценке проблем, и здесь, скорее всего, возможны два объяснения. Во-первых, Республика Бурятия, являясь национальным государственным образованием, больше уделяла и уделяет внимания вопросу межэтнических отношений и, вне всякого сомнения, добилась в этом определенных результатов (кроме 2 и 6 пунктов, которые характеризуют некоторые национальные особенности бурят). Во-вторых, сказывается и фактор времени: за последние годы произошло ухудшение межнациональных отношений в стране и в мире в целом, и это сказалось, на наш взгляд, в позициях респондентов из Иркутской области.
В целом, анализируя как теоретические источники, так и результаты наших исследований, можно выделить, по крайней мере, две большие группы факторов, усугубляющих проявление ксенофобий и способствующих обострению межэтнических конфликтов: группа социально-экономических и группа психологических и социально-психологических факторов.
Характеризуя первую группу причин, следует отметить экономические, политические, правовые и другие предпосылки, являющиеся следствием дестабилизации в России в целом. Одним из значимых факторов, определяющих стабильность или конфликтность в отношениях между проживающими в стране этносами, является политика государства в области межнациональных отношений. Нельзя согласиться с распространенным мнением, что межнациональные конфликты – это результат провозглашения курса гласности и перестройки. Потенциалы конфликтности и сами межнациональные конфликты имели место и в дореволюционный и в советский период. Однако в советское время, во-первых, вся «идеологическая машина» СССР была направлена на формирование чувства общности, братства народов и воспитания гордости за принадлежность советскому народу, во-вторых, сведения о подобных конфликтах почти не освещались в СМИ, а, в-третьих, любые недовольства на этнической почве сразу же подавлялись и урегулировались любыми методами.
В последние же десятилетия наблюдается усиление ксенофобий и агрессивных реакций на межнациональной почве. В нашей стране это, прежде всего, было связано с началом экономических, социальных и политических реформ, когда многие накопившиеся потенциалы конфликтов стали выплескиваться на поверхность. Произошло много разных столкновений, и достаточно вспомнить муссируемые в СМИ преступления и правонарушения скинхедов и националистов, а также события в г. Кондопоге в спокойной, как всем казалось, Карелии. Начавшись как бытовой, конфликт между местными и азербайджанцами в ресторане, в который подключились и чеченцы, перерос в массовые беспорядки, погромы кавказцев, а на митинге 2 сентября 2006 г. была принята «антикавказская» резолюция. Существенно то, что эксперты не отрицают возникновение других «кондопог» в российском масштабе.
В нашем исследовании 2006 г. около 50% опрошенных оказались неинформированными о событиях в Кондопоге. Среди тех, кто о них знал, оценка причин конфликта выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Причины конфликта, произошедшего в Кондопоге по результатам опроса
|
№ |
Причины конфликта в Кондопоге |
Кол-во |
% от ответа |
|
1 |
Обычные разборки между криминальными структурами |
63 |
9,5 |
|
2 |
Это скорее всего случайность, проявление хулиганства |
55 |
8,3 |
|
3 |
В основе экономические и социальные причины |
188 |
28,2 |
|
4 |
Другое |
36 |
5,4 |
Как мы видим, опрашиваемые, выражая свое отношение к событиям в Кондопоге, на первое место поставили экономические и социальные причины, причем, ярко прослеживается рост удельного веса данных причин в соответствии с возрастом респондентов.
Безусловно, ряд проблем порождают миграционные процессы. В Байкальском регионе сегодня проживают не только представители коренного населения: буряты, эвенки, тофалары, русские, но и немцы, евреи, татары, украинцы и представители многих других национальностей, кроме того – это также различного рода мигранты из республик бывшего СССР, а также из некоторых стран Азии. По данным переписи 2002 г., из 2 581 705 жителей Иркутской области большинство составляют русские – 2 320 493, на втором месте по численности буряты – 80 565, украинцы – 53 631, татары – 31 068, белорусы – 14 185, армяне – 6 849, немцы – 6 298 и т.д., всего свыше 100 национальностей. По сравнению с 1989 г. сократилось количество украинцев, белорусов, татар, чувашей. В то же время наблюдается тенденция к увеличению количества проживающих в области азербайджанцев, армян и других народов из бывших республик СССР.
В перечне национальностей последней переписи появились киргизы, ингуши, чеченцы, таджики, китайцы, которых в предыдущей переписи не было.
В Бурятии также преобладает русское и бурятское население, причем количество русских за последние годы (с 1989 по 2002 г.) сократилось с 69,9 до 67,8%, а численность бурят возросла с 24 до 27,8%. Другие национальности представлены в республике значительно меньшей численностью, так эвенки составляют 0,2%; сойоты – 0,3%; якуты – 0,02%; украинцы – 1,6%; татары – 1,1%; белорусы – 0,5%; мордва, немцы, евреи – по 0,1%.
Поскольку в регионе становится все больше приезжих из стран ближнего зарубежья, характерным последствием этого выступает возникновение этнических диаспор, как социальнопсихологических групп особого рода. Они нужны людям прежде всего для оптимизации процесса адаптации в новых условиях труда и быта, а также в качестве национального «уголка» на «чужой» земле, своего рода «отдушины».
Растет роль и значение диаспор в хозяйственной и социальной жизнедеятельности, что также оказывает определенное как позитивное, так и негативное влияние на развитие межэтнических отношений. Процесс диаспорализации наряду с конструктивными может характеризоваться следующими деструктивными проявлениями.
Во-первых, консолидация диаспоры может сопровождаться ее излишним стремлением к автономности, максимальному социальному дистанцированию, означающему, что представители этнической группы держатся обособленно, не стремятся контактировать с представителями иных национальных групп.
Во-вторых, низкий уровень контактов с аутгруппой, статусные различия, а также малочисленность диаспоры могут являться причиной возникновения межгрупповой тревожности и в результате приводят к большей гомогенности восприятия членов аутгруппы, формированию сверхпозитивных автостереотипов как отличительного признака и более негативным гетеростереотипам как механизму защиты. Кроме того, сохраняется опасность в конфликтной ситуации открытой демонстрации высокомерного, предвзятого отношения к другим.
В-третьих, специфичность и расширение сфер экономической деятельности, стремление приезжих закрепиться в регионе путем приобретения разнообразной собственности предопределяют возникновение негативных установок по отношению к диаспорам в целом, обостряют конкуренцию на рынке рабочей силы, товаров и услуг (ведь зачастую товары и услуги, к примеру, китайцев, более дешевые, рассчитанные на массового потребителя со средней или даже низкой покупательной способностью). Особо проблема конкуренции обостряется во времена различных экономических кризисов, к каковым можно отнести и современный мировой финансовый кризис. Его негативное влияние уже почувствовали на себе даже успешно работавшие ранее в России мигранты из разных стран.
В-четвертых, отстаивая интересы своих членов, диаспора может оказывать правовую и другого рода защиту и поддерживать, таким образом, нелегальное проживание, создание противоправных группировок, наркобизнес, уклонение от уплаты налогов и т.д. Лоббируются интересы своей страны, в связи с чем появляются факты оппозиции политическому курсу и лидерам России в целом или региона проживания.
В-пятых, положительные стороны роста национального самосознания, пропагандирования национальной культуры, языка, конфессиональных воззрений порой смещаются в сторону этноцентризма в его ярко выраженной негативной окраске и приводить к сверхтолерантности по отношению к собственной культуре и отвержению культуры других этнических групп, в том числе таких же мигрантов из других стран. Понятно, что следствием проявления этноцентризма и формирования установок превосходства своей этнической группы будет отчуждение, враждебность и взаимная агрессивность между этническими группами, способствующие возникновению межэтнических конфликтов. Не случайно респонденты указали, что часто к конфликтам между представителями разных национальностей приводят такие явления, как враждебные высказывания о людях другой национальности; неуважение к обычаям, традициям, языку других народов.
Опять-таки бросается в глаза устойчивость оценок некоторых характеристик по результатам двух опросов. Это заставляет задумываться о том, что не принимать во внимание существующие установки в практике взаимодействия этносов является, по крайней мере, недальновидным.
Таблица 3
Мнения респондентов о характеристиках лиц других национальностей, вызывающих раздражение
|
№ п/п |
Характеристики |
Данные по опросам |
|
|
2003 г. |
2004 г. |
||
|
1 |
Разительные внешние отличия, непохожесть |
7,2 |
12,1 |
|
2 |
Национальное высокомерие, чванство |
52,4 |
56,5 |
|
3 |
Низкий уровень культуры, духовности |
33,5 |
28,2 |
|
4 |
Вызывающее поведение, нарушающее общественные нормы |
51,3 |
54,0 |
|
5 |
Грубость, агрессивность |
52,8 |
63,7 |
|
6 |
Объединение противоправных группировок на национальной почве |
40,0 |
37,9 |
|
7 |
Националистические высказывания, публикации, теле- и радиопередачи |
11,5 |
11,3 |
|
8 |
Нетерпимость к чужой вере и религии |
23,6 |
23,4 |
|
9 |
Нежелание работать, стремление к легкой наживе |
35,5 |
30,6 |
|
10 |
Проявление национализма в бытовых отношениях |
19,9 |
13,7 |
|
11 |
Стремление окружить себя людьми своей национальности |
19,9 |
37,1 |
|
12 |
Низкая коммуникативная культура |
11,3 |
18,5 |
|
13 |
Другие |
1,9 |
1,6 |
-
- «они» склонны к насилию;
-
- «они» занимают наши рабочие места;
-
- «они» привыкли жить за счет других;
-
- «они» склонны к обману и манипулированию в торговле и коммерческих сделках;
-
- «они» слишком шумные и бесцеремонные;
-
- «они» громко говорят на своем «непонятном» языке, не проявляют должного уважения к языку страны, в которой живут;
В сознании конкретного человека, а тем более в групповом общении происходит расширение или одной – двух негативных тенденций или, скорее всего, наслоение претензий друг на друга, естественно, в отрицательном плане. Причем обмен претензиями в группе носит наглядный характер. Люди обмениваются личным опытом с представителями «чужих» или «своих» этнических групп. Обычно внимание сосредоточивается на описании житейских повседневных проблем и коллизий: ссоры в общественных местах, неприглядные действия в быту, неприятный запах от представителей «других», их некоторые обычаи и т.п.
Описание негативных характеристик «других» закономерно сопровождается противопоставлением позитивных характеристик «своих». В пику «другим» отображаются как более социально приемлемые позиции или роль своего этноса:
-
- «у нас нет таких диких традиций»;
-
- «мы не привыкли к таким вещам»;
-
- «мы не допускаем таких поступков»;
Сравнение, осуществляемое не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне, приводит к осознанию превосходства, приоритета (зачастую необоснованного, мнимого) «нашего» по сравнению с «другим». Одновременно возникает боязнь, страх за то, что неблаговид- ное влияние «их» поступков, действий, мнений может отрицательно повлиять на нашу мораль и другие социальные нормы, привести их к упадку. Эти боязнь и страх подогревают желание стимулировать действия разного рода защитников национального достоинства и традиций, а также нередко стремление влиться в их ряды.
«Перемывание косточек» «других», нелестные, критические отзывы, сравнение с «нашими» положительными атрибутами и качествами, боязнь в свою очередь их дискредитации и поиск защитников вполне могут приводить к мысли об определенной ущемленности, униженности «наших». Постепенно и сами «обсуждающие проблему» и представители их этноса начинают выступать в качестве пострадавших, жертв, страдальцев от произвола других. В данной ситуации естественным становится поиск и иных виновников создавшегося положения.
Негативные стереотипы в отношении отдельных этнических групп усугубляются рассуждениями об отсутствии необходимых и оперативных реакций по защите своего этноса со стороны компетентных органов:
-
- «Правительство не принимает никаких мер, а Президент отделывается молчанием».
-
- «Вся милиция ими куплена».
-
- «Губернатор в их действиях заинтересован, поскольку имеет родственников данной национальности».
-
- «Мэру они дают крупные взятки».
-
- «Местная власть ничего сделать не может».
-
- «Скинхеды во многом правы, выдвигая требования в защиту своей национальности».
-
- «Только жириновцы активно действуют в защиту национальных ценностей».
-
- «Сталин был прав, когда высылал в Сибирь целые народы, которые могли поколебать нашу сплоченность и патриотизм, сегодня подобные меры пригодились бы».
Необходимо учитывать, что отношение к представителям других этносов активно формируется уже в подростковом возрасте и, следовательно, межэтнические проблемы волнуют не только взрослых, но и современных подростков и юношей. В настоящее время они находятся на том возрастном этапе, когда актуализируется этническая идентификация, формируется этнический менталитет, мировоззрение личности, и национальные проблемы становятся значимыми. Кроме того, именно их установки и взгляды через несколько лет будут реально влиять на межэтническую ситуацию в Иркутской области.
В сентябре-октябре 2005 года по согласованию с Главным управлением общего и профессионального образования Иркутской области сотрудниками кафедры социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права под руководством авторов данной статьи проводилось этнопсихологическое исследование по проблемам межнациональных отношений. В качестве методов исследования использовался опрос учащихся старших классов в виде сочинения по предложенной схеме и последующий контент-анализ полученных сочинений (опрошено свыше 2000 старшеклассников Иркутской области) [26]. Исходя из задач исследования в качестве смысловых единиц анализа были выделены следующие:
-
а) степень этнической идентификации старшеклассиков;
-
б) позитивные и негативные характеристики, присущие представителям своей национальности;
-
в) оценочные характеристики (гетеростереотипы) представителей других национальностей;
-
г) суждения о характере ситуации межнациональных отношений в регионе и основных причинах, влияющих на их дестабилизацию;
-
д) взгляды относительно путей решения межэтнических проблем.
-
1. «Армяне, азербайджанцы – работящие, соблюдающие традиции, учиться не любят».
-
2. «Цыгане (те, которые живут в Иркутске) – лени, зарабатывают деньги незаконным способом, наглые, жестокие, самовлюбленные, неграмотные».
-
3. «Китайцы в основном занимаются продажей».
-
4. «Японцы – трудолюбивые (трудоголики), умные».
-
5. «Среди родственников имею немцев. Они добрые, гостеприимные, умные, вежливые, честолюбивые».
-
6. «Татары чтят свои традиции, национальные костюмы, праздники».
-
7. «Китайцы – работяги».
Наиболее эмоциональные негативные характеристики дают китайцам и «кавказцам», особенно городские школьники.
-
1. «Китайцы – грубые и неприятные люди».
-
2. «Китайцы – жадный народ, они завозят к нам много болезней, некачественный товар».
-
3. «Кавказцы – наглые толпы, чувствующие себя полнейшими хозяевами России».
-
4. «На мой взгляд, представители таких наций, как узбеки, азербайджанцы, армяне, способны на любые нарушения закона, например, убийство, кража, торговля наркотиками и т.д.».
-
5. «Больше всего нам приходится общаться с армянами, азербайджанцами, таджиками, грузинами и китайцами. Для них присущи: горячность, вспыльчивость, настойчивость, упрямство».
Таким образом, отношение к мигрантам неоднозначное, и причиной нередко становится ограниченность контактов, например, образ китайца формируется в основном из общения с теми, кто занимается специфическими видами деятельности (преимущественно торговлей и гаст-арбайтерством, то есть трудом, который не требует высокой квалификации), имеет низкий образовательный уровень, плохо знает русский язык (то есть часто не с лучшими представителями этноса) и отдельные характеристики переносятся на всех представителей этнической группы.
Многие работы проникнуты мыслью о дальнейшей судьбе России, страхом перед исчезновением русской нации или ее ассимиляцией, необходимости повышения уровня экономического развития страны, в некоторых работах прослеживается озабоченность бездействием правительства, и респонденты предлагают некоторые пути решения проблем.
-
1. «Надо вводить жестокий контроль по наплыву из стран Азии и др.…Неужели никто не задумывается об этом? Я поддерживаю движение скинов. Мне близки их понятия: «Скинхеды – за Родину». Пусть все живут там, где родились, там, где говорят на их языке и живут по их традициям. Не подумайте, что я нацист, просто в России должны жить русские! Иначе мы придем к демографической проблеме…Даже в нашей школе стоит проблема межэтнических отношений. Я не терплю тех, кто ведет себя, как у себя дома…».
-
2. «Я хочу, чтобы все народы жили дружно, никто никого не убивал, не ссорились, а из этого следует, будет жить хорошо страна, будем жить богато мы. Надо поддерживать своего производителя, свои машины, свои вещи. Китайцы заполонили наш рынок дешевой продукцией и не хотят оттуда уходить, ведь это им приносит огромные деньги, и страна Китай живет богато и хорошо, а ведь жить надо нам, так как они!»
-
3. «Я считаю, что главная проблема в том, что мусульманские и другие приезжие ведут себя нагло по отношению к русским, навязывая нам свои обычаи, религию. Я думаю, что если бы они вели себя культурно и вежливо, то не было бы в России национализма и движения скинов-нацистов».
-
4. «На мой взгляд, зарубежные жители большую часть занимают, чем наш народ. Мне это не нравится, а наше правительство, видимо, с этим смирилось, раз так допускает. Из-за иностранцев к нам приходят всякие болезни, эпидемии. И все равно их пропускают на нашу территорию».
Важно постоянно помнить то, что в межэтническом общении непреходящую роль имеет способность опереться на то, что объединяет, а не разъединяет . Даже в любых, на первый взгляд, несхожих мировоззрениях всегда были, есть и будут общечеловеческие нравственные начала, надо лишь уметь отличить «зерна» от «плевел». Религия, культура, образование, фольклор предоставляют достаточно материалов для понимания общности многих истин и канонов по важнейшим вопросам мироздания.
Как один из потенциалов согласия мы рассматриваем механизм гостеприимства.
Гостеприимство – вид исторически сложившейся социальной практики, обеспечивающий гостю прием, безопасность и заботу. Скорее всего, гостеприимство утвердилось уже в первобытном обществе, когда разными племенами совместно использовались охотничьи, собира- тельские и другие угодья, и при этом необходимо было доброжелательно относиться к представителям иных сообществ. Значение гостеприимства для обмена между социальными и этническими группами, а позднее и для эффективности торговых отношений, хорошо иллюстрирует этимологию слова гость. Если в латинском языке hostis – чужеземец, то в русском оно интерпретировалось изначально как «чужеземный купец» (вспомним известное – «заморский гость»).
К слову гость близки такие понятия, как гостиная (от сокращенного словосочетания гостиная комната, то есть комната для гостей) и гостинец . Этимология последнего слова несколько своеобразна. В древнерусском языке оно имело значение «большая дорога» или, точнее, дорога, по которой ехали гости, купцы. Именно в этом значении появляется это слово в письменных памятниках с XIII в. не только в русском, но и в польском языке. Дальнейшее изменение смысла слова шло следующим образом: товар, привезенный купцом, гостем → подарок гостя → подарок вообще.
В социально – экономическом плане важное значение имела у русских такая реальность, как гостиный двор. Древние русские сочетанием гостиный двор называли помещения для оптовой торговли, которые отводились в городах первоначально для иностранных или вообще для приезжих купцов-гостей. Подобные дворы существовали в Новгороде, Пскове, Москве, Астрахани и т.д. Существенной особенностью гостиного двора являлось то, что купцы не только торговали в нем, но и жили. Таким образом, гостиный двор приобретал характер не только рынка, а как бы иностранной колонии, пользующейся полной внутренней автономией (так было, например, в Новгороде).
Автономность, суверенность межэтнических контактов по типу «гостиный двор» издревле становилась основой гостеприимства.
Сущность гостеприимства более всего культивировалась в раннеклассовых обществах, когда государство не было способно оградить всех гостей от возможных нападок. Особо оно ценилось в этнических группах скотоводов, охотников, рыболовов. У многих народов существовал установленный кодекс и этикет гостеприимства, предписывающий каждому человеку, независимо от сословия и звания (на короткое или даже длительное время), предоставлять любому гостю кров и пищу, заботиться о нем и выполнять все его просьбы, мстить за ущерб его личности и имуществу и т.п. В. Серошевский, описывая соответствующие нормы у тунгусов (эвенков), отмечал: «В них есть что-то рыцарское и благородное…Самый последний бедняк примет вас в своем чуме, точно владетельный князь. Мне случалось посетить совершенно обнищавшего старика с целью помочь ему; он принял подарок с благодарностью, но без низкопоклонства и угостил меня диким чаем, единственным его достоянием, с такой утонченной вежливостью, что я не решился отказаться от напитка, несмотря на его противный вкус. Гостеприимство для них до сих пор священный обычай» [23, с. 216].
Приводя пример гостеприимства сибирских народов, в качестве противопоставления отметим тот факт, что сегодня вполне можно понять аборигена, который не в столь далеком прошлом видел, как пришлые люди ничуть не считаются с правилами и порядками его народа, не знают, да и зачастую не хотят знать обычаев и традиций, вошедших в плоть и кровь представителя конкретного этноса. Несомненно, это была одна из важнейших морально-психологических причин неприятия русских – первопроходцев новых территорий, а подчас и враждебного отношения к ним. Но проблема взаимного знания традиций разными народами, их принятия и желательно выполнения чрезвычайно актуальна и для современного межэтнического взаимодействия.
Еще один возможный потенциал согласия – это межэтнические браки. Смешанные браки достаточно распространены на территории России. Н.А. Алексахина приводит данные относительно доли 13 наиболее многочисленных национальных групп Российской Федерации, составляющих 12,3% населения России в 1994 г. (кроме русского населения) и процент смешанных браков в этих этнических группах. Так, по данным автора, среди украинцев (составляющих 2,3% всего населения РФ) смешанные браки составляют 31,4%; среди татар (3,6% населения РФ) – 10,4%; среди белорусов (0,7% населения РФ) – 9,4%; среди евреев (0,3% населения РФ) – 2,3%; среди бурят (0,3% населения РФ) – 0,3% (учтены только браки, где один из супругов русский).
Как видно из приведенных результатов, прямая связь между размером этнической группы и ее участием в межэтнической брачности не прослеживается. Вместе с тем, видна одна существенная закономерность: чем больше разбросаны представители национальностей по стране
(немцы, евреи и др.), тем больше возникает смешанных браков, и, наоборот, чем более компактна территория проживания представителей национальности, тем меньше процент межэтнических союзов. Автор делает следующий вывод: чем выше дисперсность, тем выше уровень гетерогенности.
В русле нашей работы приведенные факты важны прежде всего в двух аспектах. Во-первых, они показывают возможность потенциального влияния разных этнических групп на характер межэтнических контактов непосредственно через свою гетерогенность (конечно, влияние это может быть и отрицательным и позитивным). Во-вторых, значительная дисперсность расселения некоторых этносов в России позволяет надеяться на расширение влияния указанного фактора [1, с. 192-202].
В этой связи рассмотрим отдельные результаты нашего исследования по вопросу об основных детерминантах конфликтов, которые носят психолого-экономический характер. И сделаем анализ, сгруппировав респондентов в зависимости от наличия – отсутствия родственников других национальностей (табл. 4).
Таблица 4
Оценка причин конфликтности в межэтнических контактах лицами, имеющими/не имеющими инонациональных родственников (в %)
На основании таблицы определенно можно говорить о более негативном восприятии жизненных, в том числе и экономических, реалий лицами, не имеющими родственников других национальностей. Данный факт в такой полиэтничной стране, как Россия, нуждается в более детальном исследовании. Целей подобного анализа может быть много, но главная из них – поставить позитивные потенциалы этнически смешанных семей на службу улучшения межнациональных отношений в целом. Важным здесь представляется и психолого-экономический аспект вопроса.
Положение, создавшееся в нашей стране, не надо считать чем-то сугубо специфичным и уникальным, оно характерно для многих стран, особенно тех из них, интенсивное заселение которых осуществлялось в последние 2-3 века. Конкретный пример тому – обстановка в США. Хотя американцы воспринимаются в основном как граждане англоязычной страны, в Америке сегодня по происхождению нет особо преобладающей нации, в то же время почти 40 процентов американцев сообщили о своем смешанном происхождении и лишь 11 процентов принадлежали к одной этнической группе. «Сожительство» и кровосмешение с другими нациями привносят в личность психологические изменения в сторону аборигенных этносов, даже если это и не осознается конкретными представителями народа.
В качестве еще одной (кроме гостеприимства) и более «широкой» альтернативы ксенофобии и проявлениям агрессии (хотя и здесь существует масса нюансов) можно рассматривать альтруистическое поведение. Дж. Арчер определяет его следующим образом: «поведение, содействующее приспособленности других индивидов, вне зависимости от издержек жертвователя. В социальной психологии относится к поведению, базирующемуся на стремлении принести пользу другому человеку, когда у жертвователя есть свобода выбора – делать это или нет». К эквивалентам альтруистического поведения автор относит феномены «помогающее поведение» и «просоциальное поведение» [17, с.395].
Наиболее устойчивой формой преодоления ксенофобии и агрессии является межэтническое сотрудничество. Оно может быть понято как наиболее оптимальное взаимодействие, в ходе которого этносы, сохраняя свою национально-культурную самобытность, одновременно со- действуют друг другу в решении социально-экономических проблем, в достижении общечеловеческих целей и ценностей [13, с.58]. Получение прибыли от совместных торговых или производственных предприятий, взаимовыгодные контакты в решении актуальных экономических и экологических проблем, обеспечение национальных интересов в рекламе, маркетинге, менеджменте – все эти конкретные формы экономического сотрудничества могут значительно снизить, а то и полностью устранить разные негативные межэтнические проявления.
Механизмы преодоления ксенофобии и агрессивности – гостеприимство, альтруизм, сотрудничество – предполагают наличие в обществе в целом и у каждой отдельной личности социально-психологического свойства, которое в современных исследованиях называется толерантностью. Сразу же надо отметить довольно-таки широкий и даже неоднозначный комментарий данного понятия во многих обществоведческих и человековедческих дисциплинах. Это проистекает из его расширенного толкования, имеющегося в словарях. Так, в словаре иностранных слов (1987) толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) трактуется так: 1) терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо; 2) (в биологическом и медицинских планах) – полное или частичное отсутствие иммунологической реактивности, т.е. потеря или снижение организмом животного или человека способности к выработке антител в ответ на антигенное раздражение. Во втором случае толерантность выступает как бы антиподом биопсихического термина сенсибилизация – повышение чувствительности организмов, их клеток и тканей к воздействию какого-либо вещества, лежащее в основе аллергических заболеваний. Кстати, если принять ксенофобию за определенный вид социальной аллергии, то связь данных понятий можно считать продуктивной.
Не менее интересным является тот факт, что объяснение термина толерантности в философских, социологических, культурологических, педагогических и иных исследованиях носят такой характер, что порой кажется, будто одно и то же слово обладает совершенно разными смыслами. По-видимому, осознавая такую трактовку толерантности, не нужно понапрасну ломать копья, а необходимо признать, что, как и любое социально-психологическое явление, она обладает потенциалами развития, а значит, может быть представлена разными своими уровнями, в которых разные научные дисциплины и даже разные исследователи в пределах одной науки видят различительные оттенки и нюансы. Так, для одного человека толерантность может выступать в качестве определенной степени терпимости, пусть даже внешне навязанной, а для другого может представлять безусловное признание чужих как уникальных, самобытных и поэтому весьма значимых индивидов.
В русле наших рассуждений о ксенофобии нам импонирует точка зрения А.Г. Асмолова, который увязывает понятие толерантности прежде всего с устойчивостью и, основываясь на некоторых источниках, показывает спектр его значений: приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; этническая устойчивость, предел устойчивости (выносливости) человека, устойчивость к стрессу; устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям [3, с.18]. Показывая такую поливариантность слова, автор стремится одновременно избежать суженной и вызывающей ряд недоразумений интерпретации толерантности только как терпимости.
Рассматривая разного рода меры преодоления агрессивности и ксенофобии, все же в современных условиях нельзя обольщаться. К сожалению, приходится подчеркнуть некоторое пессимистическое обстоятельство, что избегание страха – это весьма сложная и подчас непреодолимая операция, поскольку он может, с одной стороны, постоянно воспроизводиться разными окказиональными причинами, а с другой трансформироваться из одного состояния в другое. Как верно подметил С. Левицкий, «задача преодоления страха – почти сверхчеловеческая задача. Страх настолько глубоко укоренен в нас, что победа над одной формой страха обычно сопутствуется победой страха над нами в другом каком-нибудь отношении. Гони страх в дверь, он влезет в окно» [16, с.229].
В реалиях сегодняшнего дня психологи прилагают совместно с медиками громадные усилия для того, чтобы ликвидировать в сознании живущих жертв террористических актов жестоких последствий перенесенных психических травм. Это очень и очень благородная работа. Но не менее важной должна быть сегодня любая деятельность психологов по выявлению причины факторов ксенофобических реакций у конкретных индивидов и этносов и разработки мер по их преодолению и коррекции. Без такой профилактической работы невозможно добить- ся эффективности межэтнического сотрудничества во всех сферах социальной жизни, экономики и политики.
Стабильность в межэтнических отношениях и их оптимизация возможны при условии преодоления ксенофобических проявлений, снижения потенциалов конфликтности, формирования адекватного отношения как к представителям своей, так и иных национальностей. Необходим поиск способов, позволяющих решать указанные проблемы. В таблице 5 представлены ответы респондентов (по данным опроса 2006 г.) относительно выбора мер, направленных на улучшение межнациональных отношений.
Таблица 5
Мнения респондентов о мерах, которые более всего будут способствовать улучшению межнациональных отношений
|
№ |
Возможные меры |
Данные опроса % от ответа |
|
1 |
Ужесточение административной и уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни |
50,0 |
|
2 |
Обучение мигрантов истории и традициям жителей региона |
29,9 |
|
3 |
Обучение коренных жителей культуре и традициям приезжих |
15,8 |
|
4 |
Введение во все учебные заведения предмета по этике межнациональных отношений |
37,7 |
|
5 |
Усиление роли СМИ в пропаганде лучших образцов межнациональных отношений |
28,1 |
|
6 |
Разработка и обсуждение региональной программы улучшения межнациональных отношений |
26,7 |
|
7 |
Ограничение притока в регион мигрантов из других стран |
39,2 |
|
8 |
Борьба с «негативом» в межнациональных отношениях со стороны силовых структур |
28,1 |
Как мы видим, наиболее популярными мерами являются: ужесточение административной и уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни; ограничение притока в регион мигрантов из других стран; введение во все учебные заведения предмета по этике межнациональных отношений.