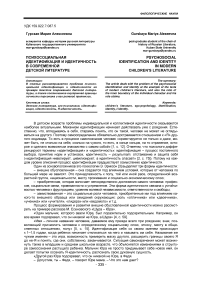Психосоциальная идентификация и идентичность в современной детской литературе
Автор: Гурская Мария Алексеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема психосоциальной идентификации и идентичности на примере текстов современной детской литературы, а также соотношение внутренней границы личности персонажа и его ролевой претензии.
Детская литература, эго-психология, идентификация, идентичность, я-идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14933348
IDR: 14933348 | УДК: 159.922.7:087.5
Текст научной статьи Психосоциальная идентификация и идентичность в современной детской литературе
Один из основоположников эго-психологии Э. Эриксон [3] выделяет три формы идентичности:
– внешне обусловленная – она создается под влиянием условий, которые от человека по большей мере не зависят. Это принадлежность к полу, той или иной расе, определенной возрастной группе, национальности, месту проживания и социально-экономическому слою;
– приобретенная, которая включает непосредственно достижения самого человека: профессия, социальные связи, привязанности и устремления. Эта форма идентичности связана с устойчивостью человека к фрустрациям, уровнем волевой независимости, ответственности и свободы;
– заимствованная – это социальные роли человека, приобретенные им под влиянием какого-то внешнего образца или ожиданий окружающих: роль «отличника» или «двоечника», «ученика» или «учителя», «лидера» или «ведомого» и т.д.
Процесс формирования и развития внешне обусловленной идентичности можно рассмотреть на примере рассказа М. Есеновского «Шура – Юра».
«Один мальчик, которого звали Юра, был поразительно подозрительным. Например, он все время подозревал, что он никакой не Юра, а Шура» [4, с. 59].
«Имя – личное название человека, даваемое ему прежде всего при рождении; знак, позволяющий причислить человека к определенному социальному слою, этносу, месту в общественных отношениях, полу» [5, с. 15]. Идентификация себя со своим именем происходит к 1–1,5 годам, когда ребенок начинает откликаться на него и называть им себя. Называние же чужим именем – это игра, возможность примерить маску другого, расширить границы своего Я до не-Я и понять, где они, собственно, заканчиваются. Ситуация самонаречения может возникнуть также в младшем и среднем школьном возрасте, что объясняется изменениями в структуре самосознания растущего ребенка. Мальчик Юра не просто придумывает себе новое имя, он делает попытки осознать Я-идентичность, распознать свою духовную сущность.
«Другой раз Юра подозревал, что он никакой не Юра, а Федя.
– Допустим, ты – Федя, – говорит Юре мама. – Что это нам дает?
- 335 -
– Во-первых, как Федя, я очень храбрый, – говорит Юра. – А это огромный плюс.
– Потом я как Федя ужасно добрый, – говорит Юра. Еще одно преимущество» [6, с. 61–62].
В основе детской идентичности лежат внешне обусловленные компоненты, важнейшие из которых – возраст и пол. Осознавать свой возраст дети начинают только в 3–4 годам, и только в 5–6 лет приходит понимание возрастной идентичности других людей. Именно в этот период взросления ребенок часто примеряет на себя роль старшего, более взрослого, а значит и более социально значимого человека. В детском сознании назвать себя именем взрослого тождественно понятию «стать взрослым», то есть вести себя соответственным образом и требовать к себе адекватного отношения.
«Другой раз Юра подозревал, что он никакой не Юра, а Петр Сергеевич. <…> – Не возражаю, – говорит мама. – Петр Сергеевич, будьте любезны, вынесите, пожалуйста, мусорное ведро. Понес Юра, как настоящий Петр Сергеевич, мусорное ведро» [7, с. 63–64].
Очевидно, что меняется не только Юрина самоидентификация («как настоящий Петр Сергеевич»), но и мама включается в ролевую игру, предложенную сыном («Петр Сергеевич, будьте любезны»).
Половая идентичность ребенка устанавливается к 3–4 годам, хотя формирование половой идентификации продолжается всю жизнь человека. Один из важнейших способов обучения типичному для данного пола поведению – подражание представителям своего пола. В своем ежедневном общении с детьми взрослые постоянно связывают поведение ребенка с его половой принадлежностью: «девочки себя так не ведут», «мальчики не должны плакать», «ты девочка, ты должна быть аккуратной» и т.д. При половой идентификации важная роль отводится игрушкам и играм ребенка. В 4 года должно сформироваться осознанное предпочтение игрушек, характерных для данного пола. А в процессе ролевой игры дети усваивают социальные правила и нормы поведения, соответствующие их полу.
«Другой раз Юра подозревал, что он никакой не Юра, а Ира. «Да неужели я Ира на самом деле? – думает Юра. – Конечно, вряд ли. Но, впрочем, следует все проверить как можно лучше»… Побыл Юра Ирою две недели, весь измотался: то прыгать нужно через веревочку, то бантики разные заплетать – даже немножечко похудел» [8, с. 64].
Юра взял на себя роль, которая ему не по силам – ведь его с детства воспитывали как мальчика. Интересна реакция Юриной мамы: «Посмотрела на это мама, вздохнула и Юре сестренку младшую родила. Говорит: – Две Иры в одной квартире – это уж чересчур. Придется, Юрка, тебе как старшему имя сестре отдать» [9, с. 64]. Как отмечают психологи, довольно часто в подобных ситуациях родители избирают неверную позицию – паникуют, запрещают, чрезмерно контролируют. Но правильнее – просто отвлечь малыша, переключить внимание на другое и плавно, незаметно регулировать его поведение. Так, в общем, и поступает мама героя Есенов-ского. В конце концов, при правильных ориентирах, ребенок самостоятельно придет к пониманию себя и Я-идентичности: «Слава Богу! Значит, все-таки Юра. Как хорошо, что хоть что-то в этом мире остается по-прежнему на своих местах…» [10, с. 65].
По мере взросления, важную роль в развитии ребенка начинают играть общественные институты – детский сад, школа. Запускается механизм социальной идентификации личности, то есть ее социализации. Это стадия характеризуется растерянностью ребенка, частой сменой идеалов и ориентиров, поиском идентичности с конкретной социальной группой, определением профессиональной принадлежности и т.д. Одним из самых важных решений, которое человек принимает еще в детстве – выбор профессии, рода деятельности. Отнесение себя к той или иной профессиональной группе связано в первую очередь с мотивацией и степенью идентификации образа «Я» с образом «профессионала».
Герой рассказов Сергея Силина Петя Оклахомов («Судьба поэта») тоже находится в ситуации выбора. Кто он: спортсмен, поэт или будущий математик? Придется принять нелегкое решение. Мотивацией выбора зачастую становятся внешние обстоятельства, для Оклахомова таковым стала любовь: «Любовь творит с человеком, что хочет: одних толкает на подвиг, других на преступление. Оклахомова любовь толкнула в поэзию» [11, с. 33]. Примеряя на себя роль, ребенок, как правило, следует стереотипным представлениям. Что значит «быть поэтом»? Быть поэтом – это писать свои стихи в тоненькую тетрадь, непременно посвятить свои творения Прекрасной даме и обязательно получить благословение от старшего «товарища по перу». Герой С. Силина так и поступает: «Придумает Оклахомов стихотворение, запишет его в тетрадку и дату поставит. <…> Оклахомов посвящал стихи только Леночке. <…> К концу недели стихов набралось две тетрадки. Оклахомов надел галстук-бабочку, отряхнул штаны и отправился к знакомому поэту, который жил в соседнем доме. <…> Закончив, он стал ждать, когда поэт его благословит» [12, с. 34–35]. Не получив не то что благословения, но даже одобрения, Петя догадывается: «Боится конкуренции» [13, с. 35]. И, не желая зарывать свой талант в землю, ищет поддержки у публики: «Народ меня поддержит, – подумал Оклахомов. – Будущее за мной» [14, с. 35]. В пубертатный период многие дети воображают себя поэтами, чаще всего это вызвано личными переживаниями и стремлением прославиться на благородном поприще. Массовость этого явления С. Силин особенно подчеркивает: «Поэтов на литературном кружке собралось человек двадцать. Все в возрасте: всем далеко за двенадцать, а некоторым и того больше». Оттолкнуть ребенка и заставить его изменить выбранному пути может несоответствие идеального представления и реальности, либо утрата мотивации. Оклахомову-поэту не повезло, с ним случилось и то, и другое. «Оклахомова слушали с восторгом, смеялись. Хлопали, катались по полу. Потом, придя в себя от пережитого, каждый сказал, что он думает о его творчестве… <…> Через неделю он разлюбил Леночку, влюбился в Вику и записался в секцию самбо» [15, с. 36]. Я-идентичность, связанная с профессиональной принадлежностью, социальными связями, привязанностями и устремлениями ребенка, то есть идентичность приобретенная, в этот период развития очень неустойчива и постоянно претерпевает изменения, вызванные фрустрациями и потерей мотивации.
Третий вид идентичности (идентичность заимствованная) рассмотрим на примере рассказа «Оклахомов остается Оклахомовым» С. Силина. Каждый день обычный человек разыгрывает массу ролей: роль сына или дочери, начальника или подчиненного, ученика или учителя, отличника или двоечника. Стараясь оправдать ожидания окружающих, мы вынуждены придерживаться определенной манеры поведения. В голове всегда присутствует внешний идеальный образец, сложившийся под влиянием общественного мнения.
В очередном рассказе из жизни школьника Пети Оклахомова Силин использует прием развернутой метафоры. Лейтмотивом повествования становится фраза – «стать Человеком». И Человеком именно с большой буквы! Как лучшие образцы классической литературы, рассказ начинается с описания главного героя:
«За минуту до начала урока в класс вошел незнакомый человек. Он был не худ и не полон, не высок и не мал. Цвет лица свидетельствовал о том, что оно хорошо знакомо с ветром и солнцем. Сюртук незнакомца был застегнут на все пуговицы и не позволял разглядеть ослепительно белую рубашку, изобличающую привычки порядочного человека.<…>Незнакомец снял с головы цилиндр, молча поклонился присутствующим и устало прошел к оклахомовской парте. Только тут в нем и признали Оклахомова» [16, с. 11].
Но что же произошло с нашим героем? Как и, главное, почему обычный школьник, разгильдяй и двоечник Петя Оклахомов превратился в этого незнакомца? Все очень просто: «Я наконец-то решил стать человеком», – отвечает Петя ошарашенной учительнице. В основе комического эффекта – ложное представление мальчика об образе идеального ученика и человека как такового. И это уже не его проблема, или, вернее, не только его. Образ идеального человека, члена общества на поверку оказывается слишком абстрактным и слабо достижимым. В таких условиях ребенок теряется и утрачивает ориентиры.
Как утверждают психологи, личностная идентификация – это процесс, которой длится от рождения до смерти человека, не прекращаясь ни на секунду. Но основа Я-идентичности, осознание себя как личности закладывается именно в детстве. Задача взрослых – направить, дать образец и просто не мешать ребенку искать самого себя. Качественная детская литература может помочь в осмыслении взрослых проблем психосоциального самоопределения.
Ссылки:
Список литературы Психосоциальная идентификация и идентичность в современной детской литературе
- Цивьян Т.В. Взгляд на себя через посредника: «Себя, как в зеркале я вижу...»//Семиотические путешествия. СПб., 2001.
- Заковоротная М.В. Идентичность человека. М., 2004.
- Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996.
- Есеновский М. Пусть будет яблоко. М., 2010.
- Мухина В.С. Идентификация и отчуждение в социальном развитии//Педагогические аспекты социальной психологии. Тезисы республиканской научно-теоретической конференции. Минск, 1978.
- Силин С. Прекратите грызть перила! М., 2009.