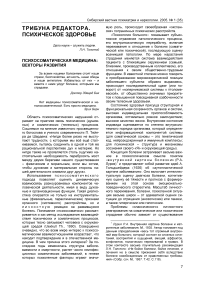Психосоматическая медицина: векторы развития
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 1 (35), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295063
IDR: 14295063
Текст статьи Психосоматическая медицина: векторы развития
За всеми нашими болезнями стоят наши страхи, беспокойства, алчность, наши обиды и наши антипатии. Избавьтесь от них – и вместе с ними уйдут болезни, которыми мы страдаем.
Доктор Эдвард Бак
Нет медицины психосоматической и непсихосоматической. Есть просто медицина.
Эрих Берн
Область психосоматических нарушений отражает на практике связь психических (душевных) и соматических (телесных) процессов. Сошлемся на мнение известного просвещенного богослова и ученого современности П. Тейяра де Шардена: «Нигде более резко не выступают трудности, с которыми мы всё ещё сталкиваемся, пытаясь соединить в одной и той же рациональной перспективе дух и материю. Но нигде также не проявляется столь ощутимо настоятельная необходимость перебросить мост между двумя берегами нашего существования – физическим и моральным, если мы хотим, чтобы духовная и материальная стороны нашей деятельности оживили друг друга».
Использование п сихосо мати ч еского подхода позволяет оценить динамическую взаимосвязь разноуровневых компонентов человеческой деятельности, имея в виду духовные и организационные функции. Такая диагностика опирается не только на инструментальные (физикальные, параклинические) признаки органного (системного) расстройства, но и л и ч н о с т н у ю реакцию на развившуюся болезнь. Понимание «психосоматики» рассматривается и как метод исследования взаимодействия психических и соматических процессов, которые тесно связывают человека с окружающей средой (Uexkull Th., 1990). Совершенно очевидно, что во всем мире интерес к психосоматическим взаимоотношениям возрастает, что находит подтверждение и в отечественной медицине. В чем причина этого интереса? За последние годы изменилась структура заболеваемости и смертности, растет число неинфекционных соматических заболеваний, в генезе которых психогенные факторы играют значи- мую роль, происходит своеобразная «экспансия» пограничных психических расстройств.
«Психология больного» показывает субъективное отражение патологического процесса, его внутрипсихическую переработку, включая переживания и отношение к болезни (соматической или психической), последующую оценку возникшей патологии. По мере нарастания страдания меняется система взаимодействия пациента с ближайшим окружением (семьей, близкими, производственным коллективом), его отношения к своим общественно-трудовым функциям. В известной степени можно говорить о преобразовании мировоззренческой позиции заболевшего субъекта: образно выражаясь, происходит последовательный сдвиг (или поворот) от «коперниковской системы к птоломе-евской», от общественно значимых приоритетов к повышенной повседневной озабоченности своим телесным здоровьем.
Состоянию здоровья присуща структурная и функциональная сохранность органов и систем, высокая индивидуальная приспособляемость организма, оптимально ровное самочувствие; высокое качество жизни. Внутреннее состояние индивида оценивается по степени внутрисистемного порядка организма, который определяется информационной компонентой системы (для соматической основы – это генетический код, нейроэкдокринный и иммунный комплексы; для психической – структура и механизмы осознания своего «Я» и окружающей среды).
Концепция болезни затрагивает весьма важное в психологическом смысле понятие «в н ут р е н н е й ка р т и н ы б о л е з н и» (Р.А. Лурия)1 и представляет собой развитие идей А. Гольдшейдера (1926) об «аутопластической картине заболевания». Оно включает интеллектуальную оценку диагноза болезни, когнитивную оценку её тяжести и прогноза с формированием на этой основе эмоциональноповеденческого стереотипа. Масштаб личностного переживания, болезни, психогенной ситуации весьма широк – от адекватной оценки ситуации до отрицания (анозогнозии) или паники, а также гипергнозии или гипогнозии.
Проблемы «классического» личностного реагирования на соматическое или психическое страдание обычно зависят от существования
Трибуна редактора феномена «объективной» или «субъективной тяжести болезни»; речь в подобных случаях идет о т.н. «настоящих» пациентах – о гармоничных, сбалансированных натурах, адекватно (по меркам большинства членов общества) реагировавших на «ситуацию болезни».
Рассмотрим психологическую характеристику еще двух категорий – т.н. «трудных» и «мнимых» пациентов, составляющих весьма спорную группу пациентов, своеобразно реагирующих на психогенно-соматогенную ситуацию. «Т р уд н ы е» больные своими причудливыми, странными, неясными, необъяснимыми, нередко весьма витиеватыми, таинственными, загадочными жалобами ставят в тупик не только близких и родных, которым они доставляют массу неудобств и неприятностей, но и широкий круг психологов и медиков, квалифицирующих у «несчастных страдальцев» разнообразные диагнозы, среди которых встречаются не только «невропатия», «соматопатия», «ипохондрия», «истерия», «вегетососудистая дистония», но и такие оскорбительные и презрительные «штампы», как «симулянт», «мистификатор», «патологический лгун» и т.д. Сложность и противоречивость устанавливаемого пациенту медицинского заключения объясняется чрезвычайно запутанной взаимосвязью между психической и органической основами картины болевых и иных субъективных переживаний, затрудняющих выбор и постановку единственно правильного врачебно-психологического вердикта по типу «многоизмерительного диагноза» (Э. Кречмер). Существование этой категории «трудных» пациентов проливает свет на «полосу медицины», заполненную армией страждущих и «мнимых» больных, сумбурно излагающих историю своего заболевания, похожую своей лихо закрученной фабулой переживаний на «крутой» детектив. При общении с такими пациентами подтверждается мнение, что искусство врачевания становится всё труднее и сложнее. Как и в любом другом искусстве, имеют значение настойчивость, выдержка, терпение, увлеченность и интуиция целителя, своей полной удовлетворения страстью и увлеченностью «приближающей врача к богам» (по выражению Гиппократа). Столкновение с подобными пациентами воочию убеждает молодого медика во всей тщетности автоматизировать и обезличить врачебное дело. Он на практике осознает необходимость развития психологической проницательности, упорного проникновения в сложный внутренний духовный мир пациента.
Сложная гамма болевых, аффективных, мыслительных и иных конструкций, которые предъявляют эти «трудно диагностируемые, лечимые и даже переносимые больные» (Пэу- неску-Подяну А., 1976)2, очень велика. С «коллекцией расстройств, болей, жалоб» данные пациенты «бегают от врача к врачу» – «с теми же вздохами, стонами, жестами, нытьем», подробно излагая «всякое бесконечно малое явление болезни», преследуемые мыслью о её серьезности и даже неизлечимости. «В руках толкового врача, хорошего психолога они могут стать покорными, поддающимися влиянию – респектабельными больными» или, напротив, если у врача нет необходимых качеств приспособиться к их психологии, они могут стать назойливыми, упорными, неприятными и даже невыносимыми». «Много чрезвычайных врачебных карьер обязаны тому, как эти врачи сумели вести себя с такого рода больными». Действенность психологического лечения состоит «в силе захвата пациента врачом, в доверии… способности влиять, изучать, убеждать терпеливо и ласково». Так, например, внимательного анализа требует брюшная боль, ибо живот (эта «коробка с тайнами») часто скрывает природу страдания, разгадать которую можно с помощью богатых и глубоких познаний, напряжения «клинического духа» и увлеченных забот о больном. И н д и в и д у а л ь н ы й (личностный и конституциональный) фактор при неясных, мучительных болевых страданиях во многом облегчает их патогенетическое объяснение. Он тесно переплетается с соматическими и психическими условиями, «жизненными, не превышающими норму». Именно они в своем сочетании порождают группу больных, которых нельзя включить ни в категорию органопатов, ни психопатов и которым нередко врач мысленно, «подобно профану», дает ярлык «мнимый больной». От индивидуальных качеств зависят «упорство страдания, его расцвет, аффективная тональность, способность больного переносить его». Отсюда проистекает клинический полиморфизм страданий с его бесчисленными обликами и оттенками, заставляя со всей основательностью выделять производящую причину.
«Конституциональные ипохондрики» (в терминологии П.Б. Ганнушкина, 1933) в условиях длительных и интенсивных напряжений (у истоков которых нередко находится неосторожное сообщение о каком-либо диагнозе) зачастую бывают убеждены в наличии опасной болезни, они целиком погружаются в заботы о своем здоровье, «заполняя всё своё время пунктуальнейшим выполнением врачебных предписаний и делаясь совершенно недоступными каким-либо другим интересам». При малейшем физическом или нравственном напряжении развиваются неприятные ощущения: чувство тяжести в голове, тянущая боль в спине, частые позывы на мочеиспускание. При первой же возможности мысли соскальзывают на «привычную для такого рода лиц колею» – к заботе о своём теле, которое представляет для них предмет особого внимания и несовершенство функций которого они чрезвычайно охотно преувеличивают. «Мысль о болезни полностью овладевает ипохондриком и гонит его от одного врача к другому, причем каждому он выкладывает массу жалоб на неприятные и болезненные ощущения самого различного рода… они тщательно ищут в своих отправлениях каких-нибудь признаков отклонения от нормы» (П.Б. Ганнушкин). Преувеличенная постоянная забота о своем телесном здоровье легко делает их адептами различных наивных верований по укреплению здоровья, последователями разного рода шарлатанских методик.
Современная терминология выделяет распространенное в психосоматической медицине понятие «общи й психосоматический си ндром» – ОПС (Бройтигам В., 1999), синонимами которого являются понятия «вегетативная дистония», «психовегетативный, «астено-вегетативный» синдромы. По мнению L. Delius (1977), В. Бройтигама (1999), выделены две клинические разновидности ОПС: органный (изолированный, с локализацией нарушений в определенных органах) и о бщ и й (с полиморфизмом симптоматики за счет вовлечения нескольких органов или систем). Для этой формы невротического реагирования характерны резкая выраженность аффективных расстройств и возникновение реакций в непосредственной связи с психосоциальным конфликтом. ОПС имеет полиморфную структуру, а проявления гомеостатической дисрегуляции психовегетативной оси играют значительную роль в клинической практике. При этом в формирование клинической картины вовлекаются многие органы и системы органов. Психический дистресс, являющийся наиболее распространенной причиной развития «общего психосоматического» синдрома, чаще всего проявляется невротическим реагированием. В то же время с позиций общебиологического подхода возможно рассмотрение невроза в качестве модели хронического эмоционального стресса. В связи с напряженностью гомеостатического регулирования при стрессе возникают формы поведения, направленные на снижение нагрузки на отдельные функциональные системы организма, то есть формируется гомеостатическое поведение (Слоним А.Д., 1986). При развитии патологии это проявляется как ограничительное поведение. Нарушения гомеостаза носят интегральный характер и их принято обозначать как синдром «дезинтеграции».
Значительную роль в жизни человека играют висцеральные ощущения, носящие «темный, смутный» (И.М. Сеченов) характер. По нашему определению, психовисцерал ьн ые ощу-ще н ия (ПВО) – это ощущения, идентифицируемые человеком как идущие изнутри тела и возникающие в связи с психическими и поведенческими феноменами (Харитонов С.В., Семке В.Я., Покачалова В.Н., 2000). ПВО устойчивы по своей топографии и характеристикам, могут трансформироваться при стрессах, внушении или самовнушении и часто носят характер подпороговых ощущений. В ряде случаев порог висцеральной чувствительности может изменяться, и подпороговые ощущения становятся осознаваемыми. Основой классификации феноменов ПВО является топографический принцип; это объясняется тем, что локализация ПВО непосредственно связана с качественными характеристиками ощущений, а изменение локализации ощущений приводит к изменению психического состояния. Анатомофизиологическим обоснованием классификации является топографически ориентированная взаимосвязь моторных и вегетативных процессов: моторные реакции в поведении человека предполагают центральный компонент, обозначаемый как «схема тела», которой соответствует «схема висцерального обеспечения» моторных актов и поведения. ПВО в кардиоэпигаст-ральной и нижней загрудинной проекции, определяемые больными как чувство пульсации, трепетания, тяжести, давления, пульсирующей или трепещущей, ноющей напряженности с тенденцией к распространению на средние отделы грудной клетки (преимущественно слева), встречаются при состояниях тревоги, беспокойства и панических расстройствах. ПВО в эпигастральной, верхней и средней частях живота возникают при ожидании стресса с предугото-ванностью к пассивно-оборонительному реагированию: напряженность, тупое, сжимающее чувство, однако не идентифицируемые как болевые феномены. В основном они определяются в рамках т.н. «медвежьей болезни», когда перед ожиданием воздействия сильного стрессора (значимого для жизни или имеющего индивидуальную личностную значимость) факультативно возникают такие расстройства стула, как частые позывы к дефекации и (или) частый жидкий стул. Судить о специфичности симптомов общего психосоматического синдрома при разных клинических формах неврозов достаточно трудно. В клинической практике рационально разграничивать две группы симптомов: первая группа включает в себя симптомы объективно верифицируемой вегетативной дисфункции; вторая – представлена феноменами, имеющими субъективное значение для пациента (зачастую эти симптомы определяют облик страдания), но происхождение этих симптомов не подкрепляется объективной верификацией. При квалификации феноменов вегетативной патологии важны критерии, по которым опреде- ляется наличие тех или иных симптомов. Различные критерии квалификации феноменов создают впечатление еще большей полиморф-ности вегетативных нарушений (схема).
Схема
Этиологические и клинические взаимоотношения в психосоматической медицине
Соматогенный
Психогенн ый —------- *
Экзогенно
Невротические реакции Невротическое состояние Невротическое развитие Органные неврозы Тревожно-фобические неврозы
Истерия
Фобии
Невротическая депрессия Панические атаки
Психосоматический синдром Кардиофобический синдром Гипервентиляционный синдром
Синдром раздраженной толстой кишки
«Святая семерка»:
-
• Ишемическая болезнь
сердца
-
• Артериальная гипертония
-
• Бронхиальная астма
Органные неврозы Синдром д'Акосты (кардионевроз) Патологическое развитие личности:
-
• астеническое
-
• депрессивное
-
• ипохондрическое
-
Невротическая депрессия Панические расстройства Неврозоподобные реакции и состояния Психопатоподобные реакции и состояния Ипохондрические состояния Симптоматические психозы
Синдромы психосоматического реагирова ния (соматоформные расстройства) рассматриваются с позиций анализа механизмов синд р о м о о б р а з о в а н и я. Первой психосо матической моделью в рамках психоанализа следует считать понятие конверсии (З. Фрейд проводил их отграничение от соматических синдромов в виде потливости, головокружения, поносов, приступов страха). По мнению F. Alexander (1953), специфичность следует искать в конфликтной ситуации. Другая, более современная модель алекситимии служит предпосылкой концепции типологии личности: речь психосоматического больного беднее по объему и содержанию, менее выразительна, чем речь невротика. Согласно биопсихосо-циал ь н ой модели Th. Uexkull (1963), конверсии представляют собой «болезни выражения». Имеется в виду, что эмоциональный стресс (как и вся аффективная сфера в целом) выполняет роль основного связующего звена между «сомой и психикой», вовлекающего в процесс вегетативные сдвиги (через эндокринную систему). А.М. Вейн (1998) вводит трехчленную формулу «психика – нейрогуморальная система – сома», однако окончательный акт преобразования психической интеграции в физическое действие «всё еще остается таким же недоступным и недостижимым, как магия» (Jaspers K., 1977).
К «психосоматическим» в узком смысле относятся соматические заболевания, в этиопато-генезе которых важную роль играют психологические факторы. По мере развития взгляды на термин «психосоматический» несколько изменились. С одной стороны, опровергается целесообразность его применения и указывается на участие психологических факторов в той или иной мере при любом заболевании. Предлагается применить данный термин к общему методологическому подходу, относящемуся ко всей области медицины. Они представляют собой «симптомы и синдромы нарушений соматической сферы, обусловленные индивидуальнопсихологическими особенностями человека и связанные со стереотипами его поведения, реакциями на стресс и способами переработки внутриличностного конфликта» (Менделевич В.Д., 1998).
Сигналом того, что способность человека к выживанию в его специфической среде нару- шена, являются функциональные нарушения; к страданию предрасполагают и его поддерживают генетические, иммунные, пищевые, бактериальные, психологические и социальные факторы.
Подтверждено участие функциональных нарушений (сердечно-сосудистой системы) в син-дромогенезе вегетативных, ипохондрических, сенестопатических, алгических проявлений в структуре «скрытых» (Schneider K., 1967), «маскированных», «ларвированных» депрессий. Отмечаются высокие показатели ко морб ид-н ости3 «подпороговой депрессии» с соматическими и психическими заболеваниями, низкий уровень выявления и лечения этого состояния в общемедицинской сети (Sherbourne C.D. et al., 1994).
В целом развитие соматопсихических расстройств зависит не только от личностного фактора, составляющего основу индивидуального реагирования на соматическую патологию, но и определяется наличием широкого спектра психотравмирующих переживаний (интерперсональные конфликты, семейное неблагополучие, психофизические перегрузки, острые психогении, социально-бытовая и производственная дезадаптированность). Суть психосоматической теории сводится к «встрече» психологических д е з а д а п т а ц и о н н ы х механизмов, повышающих уязвимость личности для соматогенных вредностей, с определенными внешними влияниями. Соматизация составляет один из механизмов адаптации к психогенно обусловленным жизненным реформам и трансформациям: не имея нозологической специфичности, она, тем не менее, предусматривает интеграцию усилий специалистов различного профиля. Изучение психогений и реактивных состояний, манифестирующих в связи с соматическим заболеванием, расширяет возможности оптимизации направленной, дифференци- рованной терапии и превенции.
В лечении психосоматических пациентов основное место занимает с о ч е т а н н а я соматотропная и психофармакотерапия. При лечении психических расстройств у пациентов, страдающих соматическими заболеваниями, возникают сложности, обусловленные необходимостью одновременного назначения различных видов психотропной терапии и средств, используемых в клинике внутренних болезней. Наличие хронической соматической патологии или первичное ее выявление у больных, находящихся на лечении в специализированном психиатрическом стационаре, требует вмешательства интерниста с целью присоединения оптимальной схемы медикаментозной фармакотерапии, которая по-прежнему остается комплексной. Своевременное назначение этиопа-тогенетической терапии заболеваний внутренних органов в соответствии с рекомендуемыми стандартами лечения позволяет решать первостепенные задачи, стоящие перед врачом-интернистом при лечении больного с обострением язвенной болезни, стенокардии напряжения, гипертонической болезни, сахарного диабета и др.
Использование адекватных дозировок психотропных препаратов в каждом конкретном случае психосоматического заболевания у пациентов с пограничными психическими расстройствами, включение в комплексную программу отдельным блоком психотерапевтических мероприятий показало высокую эффективность проводимого лечения. Наиболее эффективными реабилитационные программы оказались у пациентов с невротическими расстройствами, при лечении которых достигнуто выздоровление в 81,5 % случаев. Внедрение оптимальных корригирующих лечебнопрофилактических и реабилитационных программ, основанных на принципах комплексной рациональной и дифференцированной терапии (сокурации), позволяет добиться клинической эффективности не только в соматическом, но и в психическом статусе больных, что в целом оказывает положительное влияние на качество жизни и социальную адаптацию пациентов.