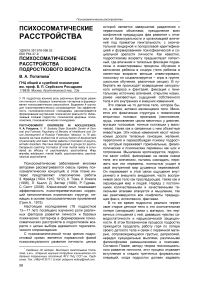Психосоматические расстройства подросткового возраста
Автор: Потапова Виктория Анатольевна
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Психосоматические расстройства
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
У 76 подростков изучена роль различных факторов развития личности и базовых психических паттернов в формировании психосоматических расстройств. Выделено 4 группы для психотерапевтического сопровождения. Как эффективность психоаналитической психодрамы рассматривается формирование внутренней психической реальности.
Подросток, психическое здоровье, психосоматика, психоаналитическая психодрама
Короткий адрес: https://sciup.org/14295384
IDR: 14295384 | УДК: 616.391:616-056.52
Текст научной статьи Психосоматические расстройства подросткового возраста
ББК Р64-37-9
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕРАССТРОЙСТВАПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В. А. Потапова*
ГНЦ общей и судебной психиатрии им. проф. В. П. Сербского Росздрава 119839, Москва, Кропоткинский пер., 23а
У 76 подростков изучена роль различных факторов развития личности и базовых психических паттернов в формировании психосоматических расстройств. Выделено 4 группы для психотерапевтического сопровождения. Как эффективность психоаналитической психодрамы рассматривается формирование внутренней психической реальности. Ключевые слова : подросток, психическое здоровье, психосоматика, психоаналитическая психодрама.
PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN ADOLESCENCE. V. A. Potapova. V. P. Serbsky State Scientific Center of General and Forensic Psychiatry of Ministry of Healthcare and Social Development of Russian Federation, Moscow . In 76 adolescents we have studied role of various factors of development of personality and basic mental patterns in formation of psychosomatic disorders. We have distinguished 4 groups for psychotherapeutic coaching. Formation of inner mental reality is considered as efficacy of psychoanalytic psychodrama. Key words : adolescent, mental health, psychosomatics, psychoanalytical psychodrama
Психосоматические заболевания многими авторами рассматриваются сквозь призму психоаналитических концепций, в этом плане интерес представляют классические работы З. Фрейда (1904, 1910, 1912), Х. Томэ, Х. Кэхеле (1996), Л. Хьелл, Д. Зиглер (1999), Р. Гудман, С. Скотт (2008). Клинический опыт показывает эффективность психотерапевтических коррекций патологических психических структур, лежащих в основе психосоматических проявлений (Грин А., 1975).
Настоящее исследование (76 подростков 13—17 лет) посвящено изучению роли различных факторов развития личности и базовых психических паттернов в формировании психосоматических расстройств в подростковом возрасте с целью выбора адекватного терапевтического сопровождения.
С психоаналитической точки зрения подростковый кризис является нормальной фазой психосексуального развития личности, целью которой является завершение разделения с первичными объектами, преодоление всех конфликтов предыдущих фаз развития с отказом от бисексуальности и организацией влечений под приматом генитальности, с окончательной гендерной и полоролевой идентификацией и формированием психофизической и социальной зрелости личности. Как известно, подростковому возрасту предшествует латентный, где влечения и телесные фиксации подавлены и инвестированы процессы обучения и включение ребенка в социум (тело ребенка в латентном возрасте меньше инвестировано, поскольку он социализируется – игры в группе, школьное обучение, различные секции). В пубертате же происходят возвращение сексуального интереса и фантазий, фиксация к генитальному источнику влечений, открытие новых, ранее неизвестных ощущений собственного тела и его внутренних и внешних изменений.
Это совсем не то детское тело, которое было, а новое, активно меняющееся тело. Меняется его физическая структура с появлением вторичных половых признаков (оволосение, грудь, становление цикла месячных у девочек, мутации голосовые, ночные поллюции у мальчиков), также как и связанные с ним объектные инвестиции. Эти новые изменения несут незнакомые доселе телесные сенсации, желания, переполняя и перевозбуждая психику подростка, который переживает гормональные, физиологические и психические перемены как шок и потрясение. Мышление эротизируется, подросток занят собой, фиксирован на своем новом теле, его влечениях, пытаясь совладать, пережить все эти перемены, полностью уходит в свой внутренний мир душевных переживаний. Он переживает в этой связи ощущения внутреннего и внешнего внедрения, часто воспринимая свое тело как преследующее, также как и окружающий мир и людей. Наряду с постоянными количественными и качественными телесными атаками атакуется и мышление, так как реактивируются все конфликты предыдущих фаз и, естественно, фантазии.
В то же время подросток реально теряет свое старое детское тело и это окончательная потеря (сепарация) связи с матерью, тех первичных отношений с ней, дававших чувство самодостаточности и нарциссической защищенности. В этом болезненном процессе подростку приходится проделать работу горя по потере своего детского тела и связи с первичной матерью, сопровождающуюся грустью, депрессией, нередко суицидальные мыслями, различными философскими размышлениями и поисками. Согласно Пиаже, автору теории психосоциального развития личности, этот процесс отражает вступление в стадию третичных формальных операций, когда подросток должен задавать вопросы о смысле жизни и смерти (Кто есть я? Что есть я? Каково мое место в мире? Что я хочу?). Это неизбежный процесс отсоединения от первичных родительских объектов и их идеалов. И даже если речь идет о пубертатном кризисе, не отягченном обязательно тяжелой психопатологией, всегда происходит определенная психическая работа – работа депрессии или работа горя. Эту работу невозможно представить без некой дезинвестиции объектных связей (подросток уходит в себя, в групповые интересы, в оппозицию к родителям), это проявляется в поведении либо в появлении инерции, избегания отгороженности, либо в формировании групп с направленной на внешнюю среду агрессивностью, пренебрежением социальными нормами, общностью в интересах, символах, языковом сленге, одежде (часто по типу «унисекс»). Наблюдается некий регресс по отношению к межполовой дифференциации. Часто эта дезинвестиция обедняет «Я», происходит большая экзальтация, перевозбуждение и гиперинвестиция внешнего поведения – отреагирование либо фетишизация тела и дренирование перевозбуждения через разные манипуляции с телом (татуаж и пирсинг вплоть до порезов и развития анорексии и булимического поведения). Таким образом, подросток пытается избавиться от переполняющих его телесных и психических переживаний, которые он не способен осознать и пережить, воспринимая их как чужеродные (вместо размышлений «действие – отреагирование», а вместо психического – телесное).
В этот период становится очевидным (своего рода очередной тест) как прошла сепарация с первичным объектом, насколько разрешен конфликт первичной нарциссической связи, а следовательно, сможет ли индивидуум принять свое новое взрослеющее тело и справиться с его требованиями.
В процессе развития нарциссическая связь ребенка с матерью претерпевает постоянную трансформацию – от полного симбиотического единства в младенчестве до окончательной сепарации с интернализацией бывшего телесного опыта в психическое «Я», способствуя его целостности, интеграции, создавая чувство самодостаточности и базового доверия.
Так, с момента рождения мать и младенец поглощены друг другом, развивая сильную эмоциональную связь, нормальное симбиотическое единство. Благодаря этому слиянию и взаимопониманию с матерью, прежде всего на невербальном на уровне, младенец чувствует себя всемогущим, защищенным. Мать отвечает на его крик адекватным образом, ребенок может немного покричать, пофантазировать, и она вовремя ответит на его ожидания, поддерживая его нарциссическое всемогущество. И такое взаимодействие очень важно, потому что про- исходит нейтрализация, защита от возбуждений, исходящих извне или из собственного тела ребенка. Формируется так называемый «барьер паравозбуждения» – барьер защиты от перевозбуждения, необходимый ребенку для выживания. В норме этот симбиоз в силу созревания младенца начинает постепенно разрушаться (по М. Малер, «сепарация индивидуаций»). С развитием моторной сферы, возможностью ходить увеличивается физическая дистанция, параллельно создаются и психологические предпосылки к автономии и сепарации. С другой стороны, улучшается управление своим телом, ребенок прислушивается к нему, к своим ощущениям, развивается аутоэротизм и постепенно формируется ощущение себя отдельно от матери «Я – не Я», вне части единого целого. Greenson описывает этот процесс как первый этап развития личностной идентичности и формирования «Я» (Я есть Я).
Мать, не принимающая естественные процессы сепарации, блокирует развитие внутри-психического пространства ребенка, порождая симбиотический психоз. Возможно, современный патоморфоз психических расстройств в сторону пограничных, аддиктивных и психосоматических патологий в том числе может быть следствием злокачественных нарциссических интеракций с первичным объектом. Green в своей работе «Нарциссизм жизни и нарциссизм смерти» описывает как из барьера, играющего защитную роль, нарциссизм начинает играть роль барьера, ограждающего нарциссическую пару от внешнего мира, где для каждого из партнеров важно притянуть другого к себе и оградить от внешней реальности. Мать должна дать авторизацию на сепарацию. Кроме того, важно присутствие третьего – отца, который, разделяя диаду «мать – ребенок», несет представление о Другом (Ж. Лакан), и, соответственно, о мире, который еще надо исследовать и находить свое место. Если «Я» приобрело автономию, если родительские фигуры сепарированы, завершен полоролевой выбор, то, преодолевая подростковый кризис, такой подросток способен принять свое взрослое тело и использовать адаптивные защиты, в частности сублимацию, справляясь с возбуждением, способен принять принцип реальности, отсрочив реализацию удовольствия до окончательного взросления, погружаясь в процесс обучения и развития, постепенно становится молодым взрослым, способным вступать в зрелые генитальные и стабильные отношения.
В процессе нашего исследования, опираясь на теорию психосексуального развития Фрейда, теорию сепарации индивидуаций Малер, психоаналитическую метапсихологию и метод клинического анализа, в первую очередь мы отметили следующие основные феномены, играю- щие структурообразующую роль в формировании различных путей развития психосоматических расстройств в подростковый период.
-
1. Тип отношений с объектом . А – зрелый, генитальный (объект и субъект сепарированы, объект символизирован и интернализирован в психический аппарат в целостном, интегрированном виде). Б – симбиотический, незрелый (объект и субъект не разделены, объект не интегрирован в своей целостности в психическом аппарате). В – анаклитический (объект психически и эмоционально недоступен для субъекта, синдром «мертвой матери»).
-
2. Барьер защиты от перевозбуждения . А – хорошо сформирован, способен к адекватному связыванию и переработке тревоги, символизирован в психическом аппарате). Б – не отделен от объекта, его функцию по-прежнему выполняет объект, слабый, не справляется с функцией связывания и перерабатывания тревоги, несимволизирован). В – неразвит, несимволизи-рован, представлен на телесно-органном уровне, т. е. не способен связать и переработать тревогу, дренируя ее напрямую через тело.
-
3. Я как структура психического аппарата . А – «Я целостное», интегрированное, способное к зрелым защитам и переработке внешних и внутренних перевозбуждений. Б – «Я» расщеплено, неинтегрировано в своей амбвива-лентности. При перевозбуждении не способно к достаточной переработке и связыванию тревоги и влечений. В – «Я психическое» равно «Я телесному».
-
4. Сверх-Я как структура психического аппарата . А – развитое, несет мораль, правила, запреты, запрет на инцест. В случае чрезмерной требовательности может вызвать переживания; запрет на реализацию влечений и невротический конфликт, сопровождающийся псевдосоматизацией по типу конверсионного расстройства. Б – жестокое, архаическое, запрещающее разделение. В – «Сверх-Я» равно «идеальному Я», но «идеальное Я» – «мертвое Я».
Комплексный анализ вышеперечисленных факторов позволил выделить три основных структуры психосоматических расстройств у подростков. Тип А, объединяющий вышеперечисленные А-феномены и свойственный в основном невротической структуре личности, развивающий конверсионные (псевдосоматиче-ские) симптомы (спазмофилия, чувство кома в горле, медвежья болезнь и пр.). Тип Б, свойственный психотическим и пограничным личностным структурам и развивающий тяжелые ипохондрические расстройства, навязчивые страхи заражения. Тип В, присущий маломентализиро-ванным психическим структурам с неразвитым внутрипсихическим миром, коллаптированным психическим пространством, не способным к созданию буфера из невротического симптома или бреда и развивающий тяжелые соматопси-хозы, тяжелые кожные поражения (по типу панциря) или соматозы, инвалидизирующие или приводящие к смерти.
Психотерапевтическая работа с подростком очень сложна, так как его трудно удержать в диадических терапевтических отношениях. Мы знаем, как сложно в терапевтической ситуации найти правильную дистанцию, соблюсти кадр, так как он постоянно атакуется подростком, как постоянно атакуется его внутрипсихическое пространство сексуальными фантазиями, биологическими импульсами, исходящими из меняющегося тела. Подросток бежит от этой пер-секуторной чувственности либо в свой внутренний мир, либо во внешнее отреагирование, поэтому работа с подростком сама по себе представляет большую сложность.
К сожалению, для психических структур, где отношения проникнуты первичной нарциссиче-ской зависимостью, связь с объектами сильна и симбиотична, нет пространства ни для себя ни для другого, где происходит «дефантазматиза-ция» внутрипсихического пространства, потеря образов и репрезентаций, нет места для фантазий и для дистанции с объектами, соответственно формирования зрелого мышления, не переносимы ни обычные диадические отношения в индивидуальной терапии, ни группы развития. Отмечаемый в детской и подростковой психиатрии патоморфоз в сторону маломента-лизированных, дефицитарных, аддиктивных патологий, где превалируют либо процессы психической заторможенности, либо перевозбуждения с эвакуацией психического содержания вовне, на телесный либо поведенческий уровень, требует и новых терапевтических методик. Психоаналитическая психодрама является одним из таких современных методов, адаптированных к подобным патологиям.
В технике психоаналитической драмы, представленной ведущим терапевтом-аналитиком и группой котерапевтов, котерапевты становятся носителями «фрагментированного переноса» в виде проекций отдельных влечений и запретов. Они конфронтируют пациента в игровой форме с его внутренними конфликтами, способами идентификаций и защит. В то же время ведущий игры, частично освобожденный груза проекций, в том числе и родительских образов, выполняет роль «медиатора», обеспечивающего необходимую сохранность нарциссического «Я» ребенка, стимулируя на этапе обсуждения игры его наблюдающие и аналитические способности. Такой подход дает ребенку или подростку возможность, с одной стороны, справиться с возбуждением, а с другой – избежать страха потери объекта.
Психодраматическая группа является гарантом интегрированности и нарциссической цело- стности пациента. Она предстает как модель его ментального функционирования, а также некоторым образом материализует телесные и психические границы, создавая постепенно различия между внутренней и внешней реальностью. Игровой процесс воспроизводит конфигурацию застывшего и отсеченного внутреннего конфликта. То, что Э. Кэстембегр назвала «коллапсом» внутреннего психического пространства, создавшегося за счет сгущения репрезентаций объектов и «схлопывания» бессознательного, приводит к выключению более зрелых невротических механизмов и актуализирует психотические механизмы расщепления и проецирования. Расщепление «Я», расщепление деструктивных и либидинозных желаний проявляется через расщепление объектов, в игре проецируется на терапевтов, контейниру-ется единой психотерапевтической группой и конфронтируется с настоящей работой по выстраиванию связей и идентификаций с проигранными сценариями, персонажами и руководителем игры, т. е. психодрама организует среду, благоприятную для развития отношений. « Таким образом, в контексте игры происходит переход от отреагирования через действие к осмыслению, переход от внешней реальности, где властвуют перцепция и потребности созревающего тела, к сотворению внутренней зрелой психической реальности и фантазированию.
Представленный опыт позволяет констатировать, что в период глубоких социокульту-ральных перемен психоаналитическое знание, интегрированное в сферу социальной и клинической психиатрии может стать важным теоретическим и терапевтическим ресурсом.